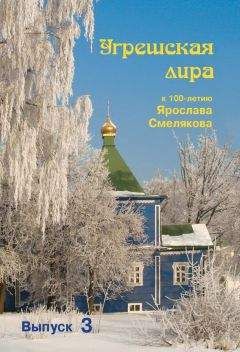Суетный дед Павел, Мюхрютка-лярва, жестокие и несчастные детдомовцы, шебутной ловелас дядя Вася, въедливая бабушка из Сисима — да не счесть всех родных, близких и далеких людей, населяющих повесть, живущих в ней, голодающих, обозленных, отходчивых сердцем, добрых, прелюбодействующих, просто зачинающих детей и просто уходящих из жизни… И в конце концов, с замирающим сердцем понимаешь, что имя тому океану, то великому, то тихому, то мутному, то светлому, одно — народ…
А если вспомнить Акимку и его мать, прижившую стольких детей от стольких отцов, — но это уже в другой книге Астафьева — "Царь-рыба"! Книга другая, но мысль одна и та же: настоящее Добро, вечное и не поддающееся никакой ржавчине, родится в темном и горячем чреве жизни, растет бок о бок со всякими страстями, со всякими искушениями и безобразиями. Но возникло оно в этой же унавоженной земле, но удобрено тем же навозом, что и вся жизнь. А коль так, коль не из головы выпросталось, коль укрепилось, словно травинка на северном ветру, и корни пустило вглубь аж до мерзлоты, коль на наших скупых соках семя вырастило, — то не умрет, не сгниет, не зачахнет, как зачахло бы здесь какое-нибудь чистопородное комнатное растение… А другого, более красивого, более чистого, более требовательного к почве добра нам не надо. Не выживет оно здесь, вымерзнет на морозах, сгниет на дождях-сеногноях, высохнет на ветрах-суховеях, и останется от попытки насадить его только разочарование за напрасные усилия да за то, что попытки эти душу людскую зря растревожили. Лучше синицу в руки, чем журавля в небе…
Среди многих волнующих сцен из "Последнего поклона" есть одна, особенно будоражащая душу, когда больной и голодный подросток-фэзэушник притащился к тетке, к бабушке, к маленьким племянникам, и они, сами прозрачные от забот и недоедания, делят с ним последнюю кружку молока.
"Взяв под мышки Капу, я посадил ее поближе к себе и, глянув в кружку, сказал:
— О-о, как много! Давай вместе!
Девочка помотала головой, пропищала, слабо защищаясь: —Я уже пила… кусала… па-асибо…
Слово "пасибо" переломилось у нее пополам. Я поднес кружку к ее рту, и Капа припала к посудине, глотнула раз, другой, сперва жадно и звучно, потом заторможенней, медленней; с большим трудом преодолев себя, девочка не оттолкнула, а отвела руками кружку, чтобы не расплескать молоко.
— Пасибо! Я кусала. Это тебе…"
Добро, которое исходит и которое, видимо, всегда будет исходить из этого существа, — высшей пробы: добро самопожертвования. В прошлые времена, да и в любые памятные нам тяжелые дни тот, кто имел душевную силу делать добро, был, конечно, незаурядным человеком. Добро стоило слишком дорого, было своего рода душевной роскошью, которую мог себе позволить лишь от природы богатый душой человек. Такое добро росло в человеке медленно, как редкое дерево в поле. Но если уж вырастало, то отличалось алмазной крепостью. Оно было фактом личного подвига, личного мужества, личным уделом каждого; за него человек и на смерть мог пойти. Но как много этого материала способно было в прошлом накопить человечество?.. Не зря, наверное, в новое время пришло оно к убеждению, что добро, как хлеб, которого на душу населения нужно во много раз больше, естественным путем не вырастишь. Удобрения нужны, конвейер нужен, государственный присмотр для производства добра необходим: Чтобы на всех хватило…
Но вот что при этом смущает: добро безличное, казенное, без которого нынче не прожить человеку, после того как попользуется он им, вроде бы и досаду одновременно с гарантированным благополучием приносит, как магазинные чеки, на которых машина одновременно с ценой пробивает слова: "Благодарим за покупку". А все потому, что получаешь его от имени громадного существа — то ли общества, то ли государства, то ли министерства, и не хватает при этом получении слов, которые, может быть, дороже самого блага, слов, без которых становится оно пресным и душу не насыщающим. Ну, хотя бы таких слов, которые бабушка Катерина Петровна говорит внуку: "Ягодки-то разделите, да с молочком, — раздался руководящий голос бабушки. — Вот и ладно, вот и переночуете, завтра в лавке по карточкам хлеб получите, да разом-то не съедайте! Обо мне не убивайтесь. Я пропитаюсь. Сами-то, сами-то держитесь…"
Вот о чем размышляю, глядя в окно избы на Тунгуску, закованную в лед и уже занесенную сверкающим от зимнего солнца снегом, на котором кое-где тянутся длинные языки черных промоин. Мы с дедом только что вернулись с рыбалки с дальнего таежного озера, где, объединившись с мужиками из соседнего зимовья, добывали на зиму карасей. С утра слепило солнце, отражаясь от озерного льда, а мы тяжелыми пешнями продолбили лунки по обоим берегам озера, погрузили стометровый таежный невод в большую прорубь и стали протаскивать оба его крыла подо льдом так, чтобы исполинским объятием двух крыл — речником и береговиком — невод схватил чуть ли не все озеро. Способу этому сотни лет. Крылья невода протаскивают подо льдом за веревку, привязанную к еловому шесту — "норилу". Норило скользит подо льдом, осторожно направляясь от одной лунки к другой рогулькой из березы. За норило привязана веревка, которая тянет крыло невода до той поры, пока на противоположном конце озера оба норила не выплывут в главную прорубь, называемую иорданью… Поставив невод, мы собрались на берегу, утоптали снег, разожгли костерок, сварили чай, перекусили и лишь потом пошли к иордани, чтобы завершить дело, — по трое мужиков с каждой стороны стали медленно вытягивать на лед невод до тех пор, пока мотня не подошла к иордани вплотную, и закипела вода от серебряного живого месива… Карасей аж дотемна выгребали сачком на лед, где они, покрываясь изморозью, вскоре образовали груду, тускло засверкавшую под сиянием громадной луны, выкатившейся из-за леса…
* * *
Мой старик привалился на постель отдохнуть, а его жена Дуся, вертлявая и неутомимая, вытирая от избытка чувств маленькие глазки, хриплым голосом жалуется на жизнь:
— Мать-то моя замужем была то ли за поляком, то ли за хохлом. Мы ведь на хуторе жили. Девятнадцать детей мать родила, а отец, паскуда, царство ему небесное, стал ко вдове на соседний починок бегать… Вернется — мать ему слово, а ён ее вожжами. Она не промолчит — второе слово, ён — за волосы… Невтерпеж ей стало — нашла она в сарае отраву на лисиц, выпила, да едва успела до порога добечь… Когда мы вернулись с пожни, глядим, она лежит на пороге, а Кешка маленький, грудной ишшо, подполз к ней и титьку сосет.
Хлопнула дверь, клубы пара ворвались в горницу, вслед за ними вошла пожилая женщина, седая, глаза с косинкой, лицо смугловатое, видно, что с примесью эвенкийской крови.
Дуся захлопотала.
— Садись, Нюра, выпей рюмочку, у меня гость дорогой… Это Степкина сестра сродная — отец у них один, а матеря разные. А Степан-то мой пьет! — вдруг ни с того ни с сего прослезилась она. — Смотри, как набуздался, спит, а ночью колобродить станет. Ты бы, Нюра, поговорила с ним, ить не молодой уже братик твой.
Нюра степенно разоблачилась, сняла с головы шерстяной платок.
— Ты жена, ты и говори! А сейчас идти нам надо, сорок дней, али ты забыла?
Дуся действительно забыла, что сегодня поминальный день по племяннику, которого на охоте вроде бы случайно застрелил из мелкашки не кто-нибудь, а отчим.
— Какой случайно! — махнул рукой дед, когда я его спросил, в чем дело. — Давно он зуб на пасынка точил, а теперь ничего не докажешь…
Но я задумался о другом. У деда, у Нюры, у Дуси — куда ни глянь в этом таежном поселке, в соседних, еще не вымерших деревнях — сплошная родова: сестры, братья, племянники, тетки, сродственники. Расплодилась она за сотни лет, пока росли и крепли эти поселения, заложенные лихими предками, Бог знает как пробравшимися сюда по северным рекам из новгородских, архангельских и вологодских земель. И столько накопилось к нашему веку этой родовы вокруг Тунгуски, что людей, неродственных друг другу, в деревнях почти и не было.
И опять вспомнилось, как Виктор Астафьев, уже после войны, воротившись на берега Енисея, встречает случайно незаконнорожденного сына своего любимого дяди Васи, которого он сам схоронил после боя в приднепровском лесу: "Род наш продолжался на земле. С обрубленными корнями, развеянный по ветру, он цеплялся за сучок живого дерева и прививался к нему, падал семенем на почву и восходил на ней колосом. Если заносило семя на камень либо на асфальт, оно раскалывало твердь, доставало корешком землю, укреплялось в ней и прорастало из нее".
А рядом с такой высокой патетической струной Астафьев не стесняется дать и некоторые забавные подробности того, как возник на земле его дальний "сродственник": "Флотоводец этот, как скоро выяснилось, был результатом предвоенной дяди Васиной поездки на курсы повышения квалификации лесобракеров…"