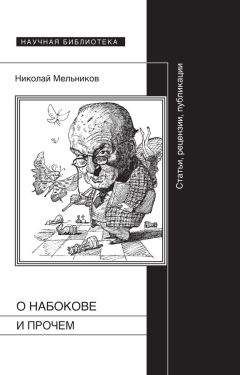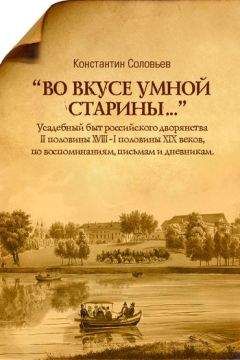Вынашивая свой замысел, Герман рассчитывал на гораздо большее, чем просто получить крупную сумму по страховому полису. Убивая Феликса, он не только хотел самоутвердиться как художник и, показав всему миру божественное всемогущество своего творческого дара, доказать свою гениальность и исключительность, но и страстно желал изменить свою тусклую жизнь, придать ей смысл и значение, бежать от самого себя, от навязанной ему роли благополучного обывателя, тупо довольного уютным убожеством окружающего мира: «глупой, но симпатичной» женой, новеньким автомобилем, прекрасным пищеварением и даже «круглым, натуженным, седовласым кактусом», «успешно, хоть и медлительно» растущим на балконе «славной» мещанской квартиры.
Уничтожить с помощью опрокинутого самоубийства свою изношенную, опошленную оболочку, низшую, оподлившуюся часть своего «я» и, волшебно обманув судьбу, остаться при этом в живых, воскреснуть в двойнике для новой, более полной и осмысленной жизни, самому стать ее полновластным творцом и хозяином – такова была заветная цель Германа. Стремление к ослепительной минуте «творческого торжества, гордости, избавления, блаженства», к «какой-то необыкновенной, ликующей, все разрешающей» точке высшего бытия, а не к «двусмысленной сумме» по страховому полису – это одухотворяло бредовый замысел набоковского мономана, образ которого, конечно же, слишком сложен и трагичен, чтобы мы могли исчерпать его сравнением с двумя посредственными немецкими преступниками, чьи имена выужены мной из небытия лишь по чистой случайности. Да и сам жизненный факт, заимствованный Набоковым из газетной хроники, подвергся настолько мощной творческой переплавке, что, войдя в сюжетную основу романа, потерял малейший привкус унылого жизнеподобия и банальной фактографичности. (Не случайно многие современники Набокова, его эмигрантские собратья по литературному труду, восприняли «Отчаяние» как откровенно фантастическую, целиком «выдуманную» историю.)21
В своем романе Набоков кардинально переосмыслил примитивный сценарий преступления, предложенный Тецнером и Сафраном, если и пожертвовав при этом кое-где внешним правдоподобием, то во имя высшей правды той железной логики абсурда, которая управляет миром и обусловливает человеческую жизнь. В то время как реальные преступники, имитируя свою смерть, тщательно скрывали факт несходства со случайными «двойниками», уродуя, сжигая их трупы, набоковский мономан одержим идеей сходства с Феликсом и на протяжении всего повествования настаивает на этом сходстве (даже тогда, когда уже самому недогадливому читателю становится ясно, что он убил и переодел в свою одежду совершенно не похожего на него человека).
Оттолкнувшись от вполне заурядного уголовного происшествия, Набоков, этот «фокусник» от литературы, бездуховный «формалист», якобы озабоченный лишь совершенством своих словесных аттракционов, этот «канатоходец», как часто его любят называть с любезной подачи одного англизированного поэта-лауреата, создал оригинальный роман-притчу, где осмысляется целый ряд философских, нравственных, экзистенциальных проблем, проходящих через всю русскую литературу. Именно поэтому для более глубокого проникновения в образ Германа Карловича, преломившего в себе такие фундаментальные темы русской литературы, как «гений и злодейство», «преступление и наказание», а также для того, чтобы полнее представить идейно-художественное своеобразие романа в целом, необходимо обратиться к литературным предшественникам набоковского героя. Полноценный анализ образа Германа Карловича немыслим без сопоставления с такими его литературными прототипами, как Герман, неудачливый злодей из «Пиковой дамы», «одержимые» герои Достоевского, ницшеанствующий доктор Керженцев из рассказа Леонида Андреева «Мысль», гоголевский Поприщин и, отчасти, Акакий Акакиевич, как и набоковский убийца придающий, в общем-то, заурядному событию статус грандиозного метафизического действа.
Особенно очевидна близость Германа «надзвездным мечтателям» Достоевского, прежде всего – бескорыстному убийце-теоретику Раскольникову (о «карикатурном сходстве» с которым подсознательно догадывается и сам Герман Карлович) и закомплексованному философу из «Записок из подполья», в напряженной, исповедально-истеричной повествовательной манере которого есть много общего с взвинченным, «кривляющимся» стилем набоковского протагониста. (Не случайно первая редакция «Отчаяния» имела эпиграф из Достоевского и рабочее название «Записки мистификатора», прямо отсылающее к «Запискам…» подпольного парадоксалиста22.)
Впрочем, тема литературных предков набоковского героя слишком обширна и требует отдельного серьезного разговора. «Это могло бы составить тему нового рассказа, – но теперешний рассказ наш окончен» – так, по примеру Ф.М. Достоевского, можно было бы завершить наше криминально-литературоведческое приключение, если бы не оставался еще один важный прототип Германа Карловича. Ничего не сказать о нем я не имею права, ибо это – сам «Пимен всей криминальной летописи»… Прошу любить и жаловать: Владимир Владимирович Набоков!
***
Хочу успокоить читателей, напрасно, совершенно напрасно всполошившихся из-за этого неожиданного сюжетного поворота: у меня нет ни малейшего желания прямолинейно отождествить Набокова с его злополучным героем, по примеру иных, не слишком разборчивых критиков, не видящих никакой разницы между точкой зрения повествователя романа, реальной биографической личностью писателя, его «публичным имиджем», «литературной маской» и, наконец, имплицитным автором, главной оценочной инстанцией художественного произведения.
К тому же Набоков, писатель скрытный, всегда упорно защищавший неприкосновенность своего внутреннего мира и своей личной жизни, едко высмеивал излишне «наивных» критиков, смело ставящих знак равенства между ним и его героями23. Опытный мистификатор, виртуоз перевоплощения, он поставил подобных умников в сложное положение: любители четких схем и навязчивых параллелей, литературные сыщики и специалисты по окололитературной сексопатологии целыми стадами озадаченных буридановых ослов трагически разрываются между соблазнительными, исключающими одна другую версиями. В самом деле, что лучше: признать Набокова гомосексуалистом – в оглядке на пылкого ураниста Кинбота, одновременно Дедала и Минотавра набоковского лабиринта в прозе под названием «Бледный огонь»? Или обвинить в педофилии, ссылаясь на злополучного нимфетколюба Гумберта Гумберта? Или просто объявить сумасшедшим, сексуально неудовлетворенным невротиком, уподобив центральному персонажу пьесы «Изобретение Вальса»?
По примеру Гюстава Флобера, любившего сравнивать себя с улиткой, спасающейся от грязи и жестокости мира в своей раковине, Набоков-прозаик старался избегать исповедальности и интимных излияний; «совершенный диктатор» в «приватном мире» литературного произведения, он всегда дистанцировался от героев и называл их не иначе как «послушные марионетки», «галерные рабы».
Все это так: литературные персонажи не исчерпывают содержания творческого «я» художника, а тем более не объясняют его реальную биографическую личность. Однако известно и другое: бледные призраки литературных персонажей питаются кровью своих создателей, «послушные марионетки» порой проговариваются, невольно разбалтывая сокровенные тайны всесильного кукловода. Поэтому все вышесказанное только обостряет желание сблизить фигуры Владимира Владимировича и Германа Карловича, доказать то, что кое в чем они – «одного поля ягодки», что в «Отчаянии» скрытный и сдержанный Набоков позволил себе порезвиться на краю глубоко личной пропасти.
Столпник эстетизма, утративший способность различать границу между искусством и действительностью, протагонист «Отчаяния» во многом является зеркальным отражением Набокова, гротескно преломив в себе черты его «литературной личности» или, точнее, «литературной маски»: пародийно воссоздав особенности той роли, которую писатель разыгрывал в соответствии с законами определенного эстетико-мировоззренческого кодекса, выставляя себя холодным эстетом, капризным снобом и гордецом, самовлюбленным нарциссом, каким он не был в своем творчестве, но каким мы видим его на страницах какого-нибудь жеманного предисловия к собственным произведениям, в том или ином ядовитом критическом эссе или в интервью, в тех бесчисленных интервью, где стареющий, начинающий уже исписываться писатель, теряющий жар, блеск и хватку (если судить по его поздним вещам), нарочито бодро старался показать (подобно известному персонажу Джека Лондона) «брожение закваски».
Многие характерные черты Германа (павлинье высокомерие, подчеркнутое равнодушие к «мерзкой гражданской суете», насмешливое презрение к людям, нарциссическое самолюбование и самовосхваление) позволяют с полным правом назвать его автокарикатурой Набокова.