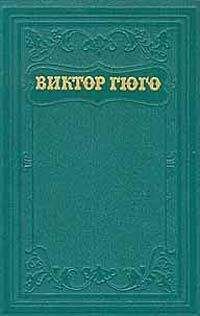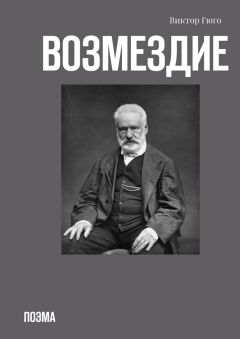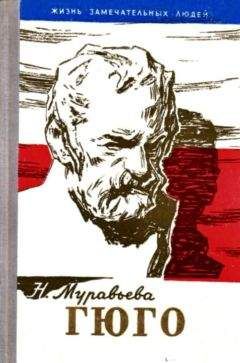Из четырех пушек, захваченных в артиллерийском дворе, была составлена батарея, обращенная теперь против Собрания. Две пушки поставили на Бургундской площади, жерла их направили на ограду, две другие с моста Согласия целились в главный подъезд.
На полях этой поучительной истории нужно отметить один факт: 42-й линейный полк — тот самый, который арестовал Луи Бонапарта в Булони. В 1840 году этот полк своим оружием поддержал закон против заговорщиков; в 1851 году он своим оружием поддержал заговорщика против закона. Прекрасные примеры пассивного повиновения.
В ту же ночь во всех районах Парижа происходили разбойничьи нападения; неизвестные лица во главе вооруженных отрядов и сами вооруженные топорами, молотками, клещами, ломами, кастетами, скрытыми под одеждой шпагами, пистолетами, рукоятки которых виднелись в складках платья, молча окружали какой-нибудь дом, преграждали к нему доступ, оцепляли улицу, открывали отмычками ворота, связывали привратника, занимали лестницу и, взломав дверь, врывались в комнату спящего человека; и когда он, внезапно проснувшись, спрашивал этих бандитов: «Кто вы такие?», их вожак отвечал: «Полицейский комиссар». Так поступили с Ламорисьером — его схватил за шиворот Бланше, пригрозив заткнуть ему рот кляпом; с Греппо, на которого грубо напал, свалив его с ног, Грофье, явившийся в сопровождении шести человек с потайными фонарями и дубинами; с Кавеньяком, которого арестовал Колен, — этот слащавый бандит был возмущен тем, что Кавеньяк отчаянно ругался; с Тьером, которого увел Гюбо-старший: впоследствии он уверял, будто бы Тьер «дрожал и плакал» — ложь, приплетенная к преступлению; с Валантеном, которого схватили в постели люди Дурланса, подняли за ноги и за руки и отнесли в запертый на замок полицейский фургон; так же забрали Мио, которого ждали мучения в африканских казематах, и Роже (от Севера), с бесстрашной и остроумной иронией предложившего бандитам выпить хереса. Шаррас и Шангарнье были захвачены врасплох. Они жили на улице Сент-Оноре почти друг против друга — Шангарнье в доме № 3, Шаррас в доме № 14. С 9 сентября Шангарнье отпустил пятнадцать человек, вооруженных до зубов, которые охраняли его по ночам. Шаррас 1 декабря, как мы уже говорили, разрядил свои пистолеты. Когда за ним пришли, эти разряженные пистолеты лежали у него на столе. Полицейский комиссар бросился к ним. «Дурак, — сказал ему Шаррас, — если бы они были заряжены, ты уже был бы мертв». Отметим следующую деталь: эти пистолеты подарил Шаррасу после взятия Маскары генерал Рено — тот самый Рено, который, перейдя на сторону переворота, разъезжал верхом по улицам как раз в то время, когда заговорщики арестовали Шарраса. Если бы пистолеты не были разряжены и если бы арест поручили генералу Рено, то Рено был бы убит из своих собственных пистолетов — Шаррас не стал бы раздумывать. Мы уже назвали имена этих негодяев из полиции, но повторить их не бесполезно. Шарраса арестовал Куртиль; Шангарнье — Лера, Надо — Дегранж. Люди, арестованные у себя дома, были депутатами народа, они были неприкосновенны — таким образом, уголовное преступление, насилие над личностью дополнялось государственным преступлением, нарушением конституции.
Это злодеяние совершалось с величайшей наглостью. Полицейские веселились. Некоторые из этих мерзавцев издевались над арестованными. В Мазасе они насмехались над Тьером. Надо сурово оборвал их. Гюбо-младший разбудил генерала Бедо:
— Генерал, вы арестованы.
— Я пользуюсь правом неприкосновенности.
— Но не в тех случаях, когда вас застают на месте преступления.
— Значит, — сказал Бедо, — мое преступление в том, что я спал. — Его схватили за шиворот, потащили в фиакр.
Встретившись в Мазасе, Надо пожал руку Греппо, а Лагранж Ламорисьеру. Это рассмешило полицейских. Некто Тирьон, полковник с крестом командора Почетного Легиона на шее, следил за приемом в тюрьму арестованных генералов и депутатов. «Ну-ка, вы, посмотрите мне прямо в глаза», — сказал ему Шаррас. Тирьон ушел.
Таким образом, не считая других арестов, произведенных позже, в ночь на 2 декабря были заключены в тюрьму шестнадцать депутатов и семьдесят восемь частных лиц. Оба главных исполнителя преступления доложили об этом Луи Бонапарту. «Упрятаны», — написал Морни. «Зацапаны», — написал Мопа. Один изъяснялся на салонном жаргоне, другой на жаргоне каторжников, — разница только в выражении.
Версиньи ушел. Я стал поспешно одеваться — вдруг ко мне вошел человек, которому я вполне доверял. Это был безработный столяр-краснодеревщик, честный малый, сильно нуждавшийся, по фамилии Жерар; он получил кое-какое образование; я приютил его в одной из комнат моего дома. Жерар только что был на улице, он весь дрожал.
— Ну, — спросил я его, — что говорит народ?
Жерар ответил:
— Пока неясно. Дело обделано так, что ничего не понять. Рабочие читают плакаты, не говорят ни слова и идут на работу. Высказывается один из ста, да и тот говорит: «Ну ладно». Вот как они себе это представляют. Закон от тридцать первого мая отменен. — Это хорошо. — Всеобщая подача голосов восстановлена. — Хорошо. — Выгнали реакционное большинство. — Чудесно. — Тьер арестован. — Великолепно. — Шангарнье в кутузке. — Браво! — Перед каждым плакатом стоят клакеры. Ратапуаль объясняет государственный переворот Жаку-Простаку. Жак-Простак идет на удочку. Словом, я убежден, что народ согласится.
— Ну что ж, — сказал я.
— А как поступите вы, господин Виктор Гюго? — спросил Жерар.
Я вынул из шкафа перевязь депутата и показал ему.
Он понял.
Мы пожали друг другу руки.
Когда он выходил, вошел Карини.
Полковник Карини — человек отважный. Он командовал кавалерией при Мерославском во время восстания в Сицилии. На нескольких взволнованных и страстных страницах он рассказал об этом героическом восстании. Карини — один из тех итальянцев, которые любят Францию так же, как мы, французы, любим Италию. В нашу эпоху у каждого человека со смелой душой две родины — древний Рим и современный Париж.
— Слава богу, — сказал Карини, — вы еще на свободе.
И он добавил:
— Удар нанесен с неимоверной силой. Собрание окружено. Я сейчас оттуда. Площадь Революции, набережные, Тюильри, бульвары покрыты войсками. Солдаты в походном снаряжении. Батареи запряжены. Если начнется битва — это будет ужасно.
Я ответил:
— Битва начнется. — И прибавил, смеясь: — Вы доказали, что полковники умеют писать, как поэты, теперь очередь поэтов доказать, что они умеют сражаться, как полковники.
Я вошел в спальню жены; она ничего не знала и спокойно читала газету, лежа в постели.
Я рассовал себе в карманы пятьсот франков золотом, поставил на кровать жены шкатулку, где было девятьсот франков — все, что у меня оставалось, — и рассказал ей о том, что происходило.
Она побледнела и спросила:
— Что ты хочешь делать?
— Исполнить свой долг.
Она обняла меня и сказала одно только слово:
— Иди.
Мне подали завтрак. Я наскоро проглотил котлету.
В это время вошла моя дочь. Я обнял ее так крепко, что она встревожилась и спросила:
— Что случилось?
— Мать объяснит тебе, — ответил я.
И я вышел.
На улице Тур-д'Овернь было спокойно и пустынно, как всегда. Однако у дверей моего дома стояли, разговаривая, четверо рабочих. Они поклонились мне.
Я крикнул им:
— Вы знаете, что происходит?
— Да, — ответили они.
— Ведь это измена! Луи Бонапарт убивает республику. На народ нападают, нужно, чтобы народ защищался.
— Он будет защищаться.
— Вы мне обещаете?
Они воскликнули:
— Да!
Один из них прибавил:
— Мы клянемся!
Они сдержали слово. На моей улице (улица Тур-д'Овернь), на улице Мартир, в Сите Родье, на улице Кокнар и близ Нотр-Дам-де-Лоретт были построены баррикады.
Расставшись с этими мужественными людьми, я увидел на углу улицы Тур-д'Овернь и улицы Мартир три позорных плаката, расклеенных ночью на стенах парижских домов.
Вот они:
ПРОКЛAMАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ВОЗЗВАНИЕ К НАРОДУ Французы!
Существующее положение не может больше продолжаться. Опасность, угрожающая стране, усиливается с каждым днем. Национальное собрание, долг которого — быть оплотом порядка, превратилось в очаг заговоров. Патриотизм трехсот его членов не мог остановить его гибельных стремлений. Вместо того чтобы создавать законы на благо всем, оно кует оружие для междоусобной войны, оно посягает на власть, дарованную мне самим Народом, оно разжигает пагубные страсти, оно ставит под угрозу спокойствие Франции; я распустил его и призываю весь Народ быть судьей между мною и Собранием.