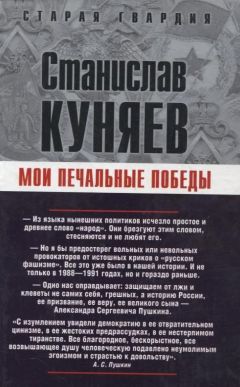А почему бы нет? Разве поэт через несколько дней, после сообщения о расстреле Тухачевского и его соратников, не написал:
Необходимо сердцу биться:
Входить в поля, врастать в леса.
Вот «Правды» первая страница,
Вот с приговором полоса.
И далее о том, что всем патриотам страны должно сплачиваться в трудное время вокруг вождя:
Непобедимого, прямого,
С могучим смехом в грозный час,
Находкой выхода прямого
Ошеломляющего нас.
В воспоминаниях М. Чудаковой о встречах с вдовой Михаила Булгакова Еленой Сергеевной есть важные свидетельства того, что взгляды Булгакова и Мандельштама на события 1937 года были очень близки: «У него (Булгакова. — Ст. К.) было ощущение возмездия от этих арестов?
— Да, не скрою от вас, было! Он открывал газету и видел там имена своих врагов… Все эти люди — они же травили его!» Там же приведена запись Е. С. Булгаковой из дневника от 23.4.1937 г.: «Да, пришло возмездие. В газетах очень много дурного о Киршоне и об Афиногенове…» Фамилий Булгакова и Мандельштама нет под письмами, требующими кары, расстрела, наказания, о «сталинистских» стихах поэта никто не знает, они не напечатаны, но написаны «в стол», а потому их искренность — неопровержима в своем бескорыстии.
Словно бы бросая вызов робким душам, не знающим, куда деться от «грозных площадей» с «лесами знамен», Осип Мандельштам мужественно сравнивает трагедию своего времени, разыгрываемую в театре, не уступающем античному, с трагедиями великих греков:
Воздушно-каменный театр времен растущих
Встал на ноги, и все хотят увидеть всех —
Рожденных, гибельных и смерти не имущих.
(12 янв. — 4 февр. 1937 г.)
Он видит в этом театре искры бессмертия и глубоко запрятанный под покровами обоюдного политического словоблудия трагический смысл происходящего на мировой арене, коей в те времена стали московские суды и партийные пленумы. Вышинский говорит одно, Бухарин — другое, а Мандельштам, косноязычно бормоча, облекает в слова-символы свои прозрения:
Необоримые кремлевские слова —
В них оборона обороны
И брони боевой — и бровь и голова
Вместе с глазами полюбовно собраны.
(Пророческие догадки о будущей войне и победе! — Ст. К.)
Все звонки Сталина Пастернаку (с разговором о Мандельштаме), Булгакову были отчаянной и рискованной попыткой объединить общество перед неизбежной войной «хоть лаской, хоть таской», хоть кнутом, хоть пряником. Бывший семинарист помнил ветхозаветную истину о том, что «царство, разделившееся само в себе», должно неизбежно погибнуть, и понимал, что после жесточайшей гражданской войны и мучительной коллективизации какая-то часть народа может отшатнуться от власти и даже перейти на сторону врага. Создать монолитное общество по всей вертикали — задача была почти невыполнимая даже и при всей сверхчеловеческой воле и организационном гении Сталина.
* * *
Воронежскую тетрадь поэт заполнял в здравом уме и твердой памяти, в привычной для него сложной, перетекающей из одного стихотворения в другое словесной ткани, из которой он выкраивал и шил свои лучшие вещи. А коли ткань того же качества, то и социально-исторические, или социально-философские, или в конце концов социально-патетические стихи его воронежской зимы бессовестно считать поделками второго или третьего сорта, некими жеманными извинениями или неумело-льстивыми одами. Не на таких дрожжах восходил его талант. Это был человек-кремень, готовивший себя всю жизнь к жертве за свои убеждения, и подозревать его в двуличии и трусости могут только ничтожные души или мелкие политические мошенники.
Одних только стихотворений о вожде в книге воронежской зимы — целых пять. И нeyжто они не перевешивают легкомысленную эпиграмму 1933 года, толкованием которой вот уже несколько десятилетий питаются мандельштамоведы, в упор не замечая трогательного признания поэта: «Я сердцем виноват»? Лучше бы честно вчитались в оду, написанную с державинской силой:
Если б меня наши враги взяли
И перестали говорить со мной люди,
Если б лишили меня всего в мире:
Права дышать и открывать двери
И утверждать, что бытие будет
И что народ, как судия, судит, —
Если б меня смели держать зверем,
Пищу мою на пол кидать стали б, —
Я не смолчу, не заглушу боли,
Но начерчу то, что чертить волен,
И, раскачав колокол стен голый
И разбудив вражеской тьмы угол,
Я запрягу десять волов в голос
И поведу руку во тьме плугом. —
И в глубине сторожевой ночи
Чернорабочей вспыхнут земле очи,
И — в легион братских очей сжатый —
Я упаду тяжестью всей жатвы,
Сжатостью всей рвущейся в даль клятвы —
И налетит пламенных лет стая,
Прошелестит спелой грозой Ленин,
И на земле, что избежит тленья,
Будет будить разум и жизнь Сталин.
(Февраль — март 1937 г.)
Обнюхивают эту глыбу и бормочут несусветное о том, что Осип Эмильевич был болен и не ведал, что творит, а потом раскаивался за неискренние стихи. Или второй вариант: Мандельштам сознательно написал хвалебные стихи тирану, чтобы избегнуть смерти; или же — он писал хвалебные стихи, но в них были зашифрованы слова, строки, в которых, если их разгадать, заключена ненависть и презрение к вождю народов. Словом — либо больной, либо приспособленец, либо хитрец, каких поискать.
Афанасий Фет, переводивший «Метаморфозы» Овидия, посвященные Цезарю, сделал однажды к переводам любопытный комментарий: «Смешно уверять, что такие вещи плод лести, лишенный внутреннего убеждения. Пусть любой льстец преднамеренно напишет что-нибудь подобное, и мы охотно согласимся с мнением, что люди, о личном существовании которых Цезарь никогда не узнает, сговорились из лести строить ему алтарь и заживо воздавать божеские почести. Не менее добродушна (видимо, Фет хотел, сказать «наивна». — Ст. К.) мысль, чтобы сердцевед, как Август, допустил в лицо себе такую преувеличенную лесть, если, не чувствовал себя действительно носителем всемирной римской власти» (Овидий. XV книг превращений в переводах с объяснениями А. Фета. М., 1887. Ст. VIII).
Одной из особенностей поэтического мира Мандельштама является присутствие в нем слов-символов, имеющих для поэта сакральное значение. Все стержневые, «позвоночные» стихотворения Мандельштама насыщены ими, держатся на словах-опорах, воплощающих для поэта некие узловые скрещения чертежей мира. Они — словно сгустки звездного вещества («звезды-карлики»), тяжелее и плотнее которого в космосе ничего до сих пор не обнаружено: «ласточка», «роза», «соль», «изба», «мед», «солнце», «сердцевина», «шерсть», «век», «кровь», — повторяются в стихах во много раз чаще, нежели «обычные» слова. Чаще всего — это существительные, но есть и любимые прилагательные: «хищный», «сухой», «жирный», «желтый», «смелый». Комментаторы, которые толкуют «Оду» и другие стихи о Сталине как написанные ради спасения, «страха ради иудейска», просто не умеют их читать. Но наличие сакральных слов-сгустков — «клятва», «очи», «желчь», «уголь», «спелый» и т. д. — первый и основной признак того, что стихи не вымучены с прагматической целью, но рождены в состоянии подлинного вдохновения, что они обладают энергией первородства. Именно эти слова-вспышки дают стихам подъемную силу, чтобы парить в воздухе.
Мандельштам вводит в одно из стихотворений — «там, где бушлатник шершавую песню поет» — тему ссыльного человека, и когда в «Оде» мы читаем: «Хочу назвать его — не Сталин, — Джугашвили», — то должно понять, что поэту изначально близок человек, сегодня ставший вождем, но вчера бывший таким же каторжанином, как и поэт, в «бушлате», знавший мир нищеты, жизни на чужих квартирах, мир случайных ночлегов, одиночества, радости разговора с незнакомым прохожим. Но — какое несовпадение! — Мандельштам опять поет «против шерсти мира». Сталин уже не любил, когда ему напоминали, что он Джугашвили. Не хотелось ему вспоминать на высотах своего величия о бездомной, кочевой, ссыльной жизни, в которой прошли чуть ли не двадцать лет. Обращался он к ней лишь в исключительных случаях, когда эти воспоминания нужно было бросить на чашу весов политической борьбы. Тогда он немного приоткрывался, и однажды в 1931 году сказал в беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом:
«Тех товарищей, которые не уезжали за границу, конечно, гораздо больше в нашей партии и ее руководстве, чем бывших эмигрантов, и они, конечно, имели возможность принести больше пользы для революции, чем находившиеся за границей эмигранты…. Я знаю многих товарищей, которые прожили по 20 лет за границей, жили где-нибудь в Шарлоттенбурге или Латинском квартале, сидели в кафе годами, пили пиво и все же не сумели изучить Европу и не поняли ее».