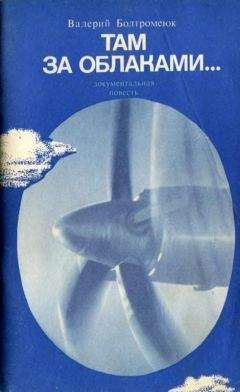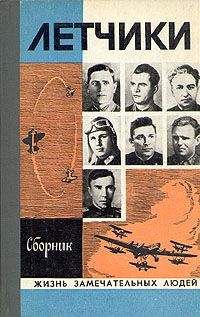А потом соседи собрались к столу. Была какая-то особая радость в этих неторопливых сборах, в том, как поднимались односельчане на их крыльцо и долго и уважительно трясли ему руку, как проходили потом за стол и рассаживались и говорили об одном: гляди-ка, а ведь вышел в летчики, выбился, добился; значит, есть-таки среди них одни глумовский, Василия, летчика погибшего, сын!.. А он вспомнил, как в голодные дни вот эти соседки, теперь даже словно бы немного стеснявшиеся его щеголеватого городского вида, подкармливали его: на-ко, пожуй, летчик ты наш! И как учили его делать взрослую мужскую работу и тем ставили на ноги, и подумал: а ведь всем своим я вот этим людям обязан…
Воспоминание это, особенно когда в полетах случалось круто, часто выручало его.
А ему уже тогда открывалась дорога в Школу высшей летной подготовки, а дальше — пилотом, сначала вторым, но на тяжелых машинах, и работа на пассажирских линиях — аристократическая работа, сверкающие огнями аэропорты, элегантные скоростные самолеты, автоматика, и за штурвал садишься в белой сорочке, а не в свитере, который тут, бывает, не снимаешь неделями. И еще многое сулило это заманчивое предложение, которое хотя и было лестным, потому что означало признание его, молодого, летчиками-мастерами, но о многом заставляло задуматься. Слитком уж резким получался скачок от химической прополки полей, от перевозки запчастей к сенокосилкам к работе на пассажирских линиях: более высокого профессионального доверия к летчику нет.
Его остановила спокойная трезвая мысль: отец, конечно, был бы доволен успехами. Но он хотел бы видеть перед собой настоящего, то есть знающего, летчика. Мог он, Мараховский-младший, сказать про себя, что он — знает?
В Школу он все-таки поехал. И переучился там на второго пилота самолета ИЛ-14. Это была сказка, не самолет, рядом с тем, на котором он еще недавно летал. Но работать он попросился на аэрофотосъемку. И улетел на Дальний Восток.
По сути, его новая жизнь мало чем отличалась от кочевого житья полевых геодезических партии, уходивших в тайгу с весной и пропадавших в ней до снега, до ледостава на неприрученных реках. Долгие месяцы летчики жили и работали вдалеке не то что от городов — даже от самых малых, иной раз всего в два-три дома, поселков.
Там Мараховский впервые узнал, что такое в натуре «медвежьи углы»: многие районы, над которыми приходилось утюжить небо, пока и знали-то более или менее подробно в основном только по данным их аэрофотосъемки. Он, однако, не жаловался: сам эту жизнь выбирал. Да и выяснилось впоследствии, что именно их работа оказала неоценимую помощь поисковым партиям, например, в той же Тюменской области, которую Мараховский помнил еще пустынной, не меченной нефтяными и газовыми вышками. Летчики стали полноправными соавторами всех тех открытий, которые прославили Тюмень на весь мир. Мараховский втайне этим гордился.
Работать было трудно. Даже не потому, что самолет следовало пилотировать с точностью хронометра по курсам, рассчитанным едва ли не до метра. — это было железное условие их работы. В случае ЧП им не на кого было надеяться: пути их самолетов лежали далеко в стороне от освоенных человеком земных и небесных пространств.
И случались дни, когда даже встрече с медведем летчики готовы были обрадоваться, как встрече со старым знакомым, хотя как раз такого свидания желали меньше всего: оно могло произойти только в случае вынужденной посадки. И был однажды отказ двигателей над отрогами Сихотэ-Алиня. И как-то, может чудом только, вывернулись они из хитрого переплета в гольцах саянских. А на Кавказе — тогда он уже летал командиром — гроза прихлопнула в ущелье, как в ловушке, его самолет…
Теперь он мог подумывать о переходе на пассажирские линии: внутренне был к этому готов.
Переход этот, однако, означал, что все у него в жизни начнется сначала. С другими типами самолетов придется иметь дело, к другим высотам и скоростям привыкать. Но его тянула к себе высота, которая становилась с каждым полетом заманчивее и шире.
И потом он уже знал: в горы идут для того, чтобы подняться к вершинам и, покорив одну, прицелиться на штурм следующей. Иначе не стоит уходить от порога.
Ты счастливый человек, летчик. Тебе дано знать и видеть много такого, чего не дано больше, наверное, никому.
Кто видел и запомнил рассвет с высоты полета в тот короткий, неуловимо тающий час суток, когда они уже на изломе? Ночь бледнеет, там, по нижнему краю, но еще плотен, угрюмо тяжел ее фиолетовый космический холод над головой, и звезды похожи на белые цветы, вмерзшие в вечный лед. А внизу все яснее, отчетливее становятся пространства. Утренний невидимый бриз снимает одни за другим покровы тумана, и сказочно богатой открывается внизу утренняя земля. Многоцветными яшмами вкраплены в малахит июльских полей леса, рубинами горят утренние росы, и реки налиты блеском горного хрусталя, ясного, как слеза. Там, внизу, мир еще досматривает утренние сны, а ты летишь уже как бы в разгаре дня.
Ты видел и пережил это тысячу раз. И тысячу раз видел рождение ночи высоко над землей, еще купающейся в лучах солнца, и рождение солнечного блеска над миром, погруженным во тьму.
Однажды поэт сказал: «Я пересыпаю звезды, как зерна, из ладони в ладонь». И все увидели в этом только красивую необычность. Ты промолчал. Потому что знаешь, как это бывает на самом деле. Когда стоит глухая полночь и нет земли, а есть только темнота, такая огромная, что самолет бесследно растворяется в ней, тогда вдруг приходит странная тишина. Пропадает ощущение скорости, высоты и пространства. И вот ты уже как бы паришь беззвучно, бесплотно, невесомо, подхваченный неведомой силой. И чтобы избавиться от этой бесплотности, такой завораживающей, легко кренишь самолет влево и вправо. А звезды, такие близкие, что до них легко дотянуться рукой, начинают медленно скользить с крыла на крыло, и это очень похоже на то, как пересыпают задумчиво зерна из ладони в ладонь. Шкалы и циферблаты на приборной доске в эти минуты светят тебе, как созвездия, указывающие дорогу в иные края, где ты еще не был…
Ты живешь как бы в двух измерениях времени, скоростей и пространства, и как будто двум мирам сразу принадлежишь. Миру привычного и понятного, в котором ты, как великое множество прочих, ходишь по магазинам и на футбол, берешь с бою кассы Большого театра, когда там идет «Лебединое озеро», возишься с цветами, которыми «заболел» от своего штурмана, стоишь по утрам на углу, у киоска, за «Неделей», строгаешь что-нибудь по хозяйству или принимаешь гостей. И миру другому, в котором ничего нет, кроме яростной скорости, сопротивления металла, пространства и высоты, миру, где иными степенями оценивается многое из того, чем держится твоя жизнь на земле.
Случается так: вдруг замечаешь, что можешь опоздать на предполетную явку. И тогда ловишь на перекрестке такси.
И стоит только машине тронуть с места, разом как бы начинает отодвигаться в сознании все, чем и среди чего жил до этих минут. Еще тянутся мимо улицы, которые знаешь на память, еще фиксирует сознание самые что ни на есть бытейские вещи — вот, например, у этой «Волги» сработались и постукивают клапаны… Но ты уже своему городу как бы и не принадлежишь теперь: мысли заняты тем, что ждет впереди. И когда таксист, вырвавшись на загородное шоссе, с облегчением жмет на газ и обочина шоссе, размытая скоростью, неуловимо делается похожей на обочину взлетной полосы в минуту разбега, в тебе возникает отчетливое желание — на полосе оно звучит в тебе как приказ — быстренько выбрать на себя легкую слабинку рулей глубины…
И никуда не деться от странной этой раздвоенности, без которой немыслима сама твоя жизнь. И некому даже бывает сказать об этом. Непосвященный может и не понять, почему это свой город, в котором родился и вырос, ты все время мысленно видишь как бы с высоты разворота. А своим что рассказывать? Они это все знают сами. Брось, скажут. Что тут особенного. Просто у нашей работы такая специфика.
Вера Ивановна прочитала ему с порога нотацию за то, что своими вечными подарками, всеми этими шоколадками, он окончательно портит внука. Гордеев слушал спокойно: Вера Ивановна несердито в общем выговаривала, потому что сама питала к внуку немалую слабость. Ей все казалось, что, пока росли свои в тесноте случайных в первую пору квартир, да при военных и послевоенных первой поры нехватках, она не успела дать им все, что хотела а что положено было их детству. Выросли дети, вот уж появился и первый внук, с которым она даже как бы снова помолодела, — и теперь она словно торопилась возместить ему то, чего не пришлось когда-то на дочкину долю, Гордеев все это знал, как вообще знал почти всегда наперед, что Вера Ивановна скажет и сделает. Также и она легко умела угадать его настроения и поступки: они столько пережили вместе всякого, что это было в общем не мудрено.