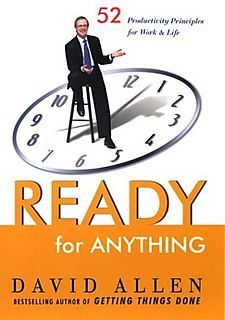Другой уровень, или сегмент, публики – потребители гламура, люди моды, о них и образцах их «культуры» говорилось выше. Здесь другой ритм взаимодействия со зрителями, читателями, слушателями, он сезонный или, в пределе, годовой: смена новинок, новый премиальный цикл и проч.; самый короткий отрезок – месяц между номерами модного журнала. При этом менеджеры гламурной культуры и практики гламурного обихода, создатели глянцевых журналов, звезды модных тусовок сегодня уже не ограничиваются замкнутым существованием в собственном кругу. Они претендуют на роль экспертов, оценщиков, рекомендателей культурных образцов (близость тех или иных среди них к представителям власти и крупного бизнеса сейчас не обсуждаю, это отдельный комплекс проблем и исследовательских задач). Читатели, зрители, слушатели все чаще получают и принимают сегодня книги по рекомендации журнала «Elle» или Владимира Соловьева, фильмы от Ренаты Литвиновой, музыку от Башмета (имена беру наугад, они могут быть другими) – то есть с соответствующей авторитетной наводкой, непременным модным лейблом273.
Остаточный или, говоря несколько шире, синтетический характер носит публика толстых журналов, читатели, ориентированные на литературную классику, или телезрители программы «Культура». Если говорить для примера именно о толстых журналах, то они за 1990-е гг., потеряв преобладающую часть читателей, заняли функциональное место чего-то вроде little review; правда, количество little review в крупных и развитых странах исчисляется тысячами, в нашем же случае их – полтора-два десятка. Это площадки для дебюта (тем более важные при огромной российской периферии, где разглядеть нового автора могут только в Москве и если он сам окажется в столице), где делаются заявки на место в будущих премиальных списках, а значит, и на место в литературном клубе или даже в большой литературной тусовке. Если глянцевые журналы работают с заведомыми звездами, заимствуя их символический авторитет, то толстые делают звезд, а потом делят их: наиболее часто публикующиеся в каждом из них авторы чаще всего гастролируют и в других журналах этого типа. При этом «толстяки» частично используют героев глянца, как, впрочем, и отдельных представителей литературы эксперимента, экспрессивно-символического поиска: роль таких журналов сегодня (можно было бы то же самое показать на примере новостных программ или составе участников ток-шоу на канале «Культура») – тоже эклектическая.
Типологический список такого рода социокультурных образований в принципе открыт, и можно было бы продлить его дальше. Но для целей статьи я ограничусь еще лишь одним типообразующим примером – это маргинальная культура, культура смыслового и эстетического поиска. Она обращена чаще всего к очень узким кругам, даже кружкам аудитории, значительную часть которой составляют сами авторы, – такова аудитория, например, современной академической музыки, поисковых литературных журналов (например, российского «Воздуха») либо, скажем, Театра.doc и связанного с ним фестиваля «Кинотеатр.dос». Парадоксы такого рода культуры в нынешних российских условиях связаны для меня с двумя обстоятельствами. Замкнутая достаточно узкими границами людей, способных на поиск и заинтересованных в его понимании, эта культура, вместе с тем, стремится выйти к предельно универсальным формам и значениям всеобщего, человеческого (антропологического), будь оно экзистенциальным прорывом, эстетическим экспериментом или каким-то иным опытом. С другой стороны, эта культура, маргинальная по отношению к любому мейнстриму, в сегодняшних отечественных условиях приобретает – вольно или невольно – еще и политическое измерение. Вот о двух этих пунктах я в заключение и хотел бы поговорить подробнее.
6
Вообще говоря, можно выделить два исторически реализованных типа репрезентации политического в искусстве. Они достаточно известны из отечественной и зарубежной практики XIX – XX вв., эпохи модерна.
Это, во-первых, ангажированное, мобилизационное искусство, как поддерживающее власть (официальное и официозное), так и протестное. Образно-символическими средствами оно воплощает программу тех или иных сил, стремящихся участвовать во власти, поддерживать собственную власть или ниспровергать чужую. Такова, допустим, поэзия Маяковского (дореволюционного и советского периода в их сходстве и различии), таково кино Эйзенштейна от «Стачки» до «Ивана Грозного».
Во-вторых, это критически дистанцированное искусство. Оно сознательно и последовательно работает с политическими фигурами, риториками, символами, мифами, демонтирует их, показывая, как это сделано, и тем самым дает возможность в той или иной мере освободиться от устойчивой привычки к ним или от их временной магии и фасцинации. Такова в кино игровая «немецкая трилогия» Ханса-Юргена Зиберберга274 или документальная «Приватная Венгрия» Петера Форгача275. Таковы в живописи военные и мифологические циклы Ансельма Кифера276.
Оба названных направления – примеры сравнительно прямого обращения к политической тематике и символике. Но здесь возможны сдвиги и деформации. В этом плане мне хотелось бы отметить сейчас недавний, сравнительно новый для постсоветского периода, неклассический поворот темы «политика и культура», «политика и искусство». При рассеянии политического и гламуризации его публичной части в «нулевые» годы, о чем речь шла выше, индуцированное, «наведенное» политическое значение сейчас приобретает, с одной стороны, все поисковое в культуре, а с другой – все репрессированное в публичной жизни. Два эти направления работы культуротворческих групп можно объединить: речь идет о проблематике индивидуального или антропологического как ориентира в художественных поисках и как социально-репрессированного начала. В других условиях эту проблему образцово сформулировала для себя авангардный американский кинорежиссер Сью Фридрих, когда в одном из интервью заявила: «Личное и есть политическое» («The personal is political»)277. В нынешних российских условиях отстаивание права на индивидуальное и даже интимное как единственную действительно универсальную, всеобщую ценность (в этом смысле – моральное начало), возможно, дает один из примеров трансформации политического в условиях всеобщей, безальтернативной и гламурной «политики», как и рассеивающейся «гламурной культуры». Политическая и социальная практика редукции, вытеснения и уничтожения всего «непохожего», «отличного» в массовизированном социуме и общедоступной культуре порождает в локальном масштабе, на маргинальных участках своего рода «восстание индивидов» (по аналогии с известным «восстанием масс»).
Борьба за интимное, человеческое как за немногое нескомпрометированное общее ведется в миноритарных культурах на грани его исчезновения или невозможности. Приведу лишь несколько примеров, их перечень может быть многократно продолжен. Таково, например, значение символики женского, детского, больного, отверженного, стигматизированного «большим» социумом в поэзии Елены Фанайловой – ее «бомжики», «подруга пидора», «даун и левша» и др. в книгах «Русская версия» (2005) и «Черные костюмы» (2008)278. Такова семантика «бабушек в черном», обиженных животных и «ангелов недостоинства» в неорелигиозной лирике Сергея Круглова (книги «Зеркальце» и «Переписчик», 2008). Таковы одинокие гротескные персонажи, которые обживают руины некоей фантастической, но хорошо узнаваемой нами цивилизации, практикуя своего рода «культ карго» и даже «язык карго», в коллективном сборнике стихов Арсения Ровинского, Федора Сваровского и Леонида Шваба «Все сразу» (2008). Таковы документальные социодрамы (докудрамы) Театра.doc279 и примыкающего к ней фестиваля «Кинотеатр.doc». Близка к этому роль телесного (открытого, то есть ранимого) и стихийного (природного, но загаженного), предельно деиндивидуализированного и предельно же, натуралистически материализованного в документальном кино Александра Расторгуева, например в его ленте о новобранцах Чеченской войны «Чистый четверг» (2003)280.
В массовой и гламурной культурах мир словно свернут в конструкцию «зеркало в зеркале» – настоящее в прошлом / прошлое в настоящем, «мы» как остров, сами по себе. В поисковой культуре, о которой сейчас идет речь, на уровне манифестов поднимается проблема противостояния тотальности мейнстрима. Тексты же в границах миноритарных культур все чаще актуализируют характерную семантику слабости, хрупкости, даже поражения, причем в двух взаимосвязанных смыслах этого последнего слова: в значении возможного краха, обреченности на проигрыш и в значении раны, боли, уязвимости. В этом плане представляется глубоко не случайной значимость для сегодняшних миноритарных культур в России таких неогуманистических фигур послевоенной Европы, как Симона Вайль и Пауль Целан.