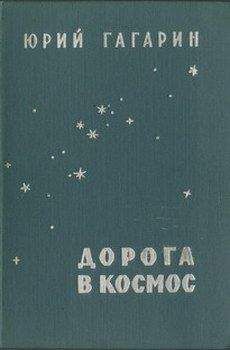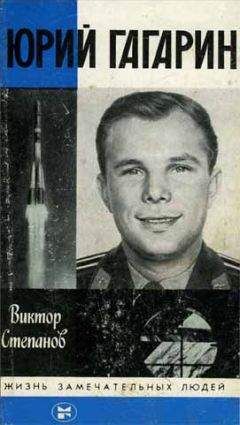— Просите разрешение на взлет, — приказал инструктор.
— Ракета! Я — ноль шесть, разрешите взлет!
— Ноль шесть. Взлет разрешаю! — ответили с командного пункта.
Он изо всей силы надавил сектор газа, но Мартьянов сдержал его.
— Не торопись! Газ давай плавнее.
Самолет двинулся.
— Поднимайте хвост! Ручки от себя… Плавно-плавно…
Як-18 начал разбег. «Почему он подпрыгивает, как ошалелый? Я что-то не так делаю», — подумал, двигая вперед ручку управления, а рядом послышалась уже другая команда, как ему показалось, совсем противоречивая.
— А теперь энергичнее!
Но делал то, что говорил Мартьянов.
— Сбавляйте обороты двигателя!
Он сбавлял и наконец понимал, что именно это и надо в данный момент делать. Только такое решение почему-то у него самого запоздало. Не хватало времени все сразу сообразить. Мартьянов спокойно, ровным голосом говорил:
— Учись распределять внимание. По прямой веди самолет.
Очень сложно поначалу именно это: успевать следить за всем, когда из наушников шлемофона сыпались беспрерывные команды:
— Высота!.. Отвечайте, какая высота?
— Скорость!
— Крен!
А Мартьянов тоже требовал свое:
— Не зажимай управление!
Тогда, как только приземлились, Юрий посмотрел на Мартьянова открыто, в упор и спросил:
— Плохо у меня получается?..
Мартьянов внимательно оглядел видавший виды комбинезон с чужого плеча, перепоясанный широким ремнем с бляхой, оставшейся, наверное, с ремесленного училища, остановил взгляд на шлемофоне, тоже явно ему великоватом, сказал бодрее, чем хотел поначалу:
— Нормально получается… А без труда не вынешь и рыбку из пруда. Понял?
Потом они сделали еще семьдесят четыре вывозных полета. Инструктор учил видеть одновременно и показания приборов, и землю, и чувствовать самолет. А когда нужно было, подбадривал курсанта, шутил… Да, Мартьянов помог сбыться его самой заветной мечте — научил летать.
Предчувствие больших перемен в жизни возбуждало, постукивание вагонных колес доставляло удивительное наслаждение.
В кармане лежали два свидетельства (было и третье — его выдало Люберецкое ремесленное училище, тоже с отличием). Он получил их почти одновременно: диплом с отличием об окончании индустриального техникума и диплом Саратовского аэроклуба, в котором значилось: самолет Як — «отлично», мотор — «отлично», самолетовождение — «отлично» и общая оценка выпускной комиссии «отлично». Все было за него. Не маменькин сынок ехал на штурм новой высоты…
На душе было и радостно, и тревожно: как же теперь сложится его судьба? Оренбургское летное училище — одно из старейших в стране. Отбор, как он уже слышал, туда особенно тщательный. Конечно, причин для тревоги у него вроде бы и не было. Аттестации из аэроклуба хорошие. Здоровье тоже отменное…
Вот и перрон. Встречающие, объятия, цветы. Это пока не для него. Неторопливо оглядел старинное здание вокзала.
В шумной толпе почувствовал себя прежним старшиной и комсоргом.
— Где находится ЧВАУЛ?
В ту пору так называлось училище — Чкаловское военное авиационное училище летчиков. Теперь оно называется Оренбургским высшим военно-авиационным и носит имя Героя Советского Союза И. С. Полбина.
К училищу решили идти пешком: кто его знает, когда теперь вырвутся в город. Как-никак, а со штатской жизнью они надеются распрощаться. Брели по ровным, прямым улицам, останавливались, делились первыми впечатлениями.
Случайно набрели на рынок и ахнули от изумления. Вот те на! Перед ними стоял верблюд. Гагарин рассмеялся:
— Теперь я верю, что мы на границе Европы и Азии. Помните, Мартьянов говорил, что Оренбург стоит на стыке двух частей света.
Они двинулись дальше, курсом на памятник Чкалову, пока он не вырос во всю двадцатиметровую высоту.
— Вот и пришли к вам на смену, Валерий Чкалов…
Сердце все же забилось сильнее, когда Гагарин увидел свою фамилию в списках курсантов.
Исчезли пиджаки, ботинки, туфли, их заменили гимнастерки и сапоги, а длинная казарма с двухэтажными кроватями стала домом. В кино — строем. На тактические учения, в столовую — тоже строем. Начиналась новая жизнь, где все диктовалось уставом: поощрение, награда, взыскание.
Затянулась унылая, с обложными дождями осень. Давно опал багрянец Зауральной рощи. Потянулись нелегкие курсантские будни. Но Юрий и в них находил небольшие праздники.
Любил, когда строем шли по городу, чеканя шаг, и ждал с нетерпением команды:
— Запевай!
Пел от всей души. Дружный хор нравился, как и солдатские песни, бравые, каких раньше не знал. И если чувствовал, что сосед поет без этого радостного подъема, звонче затягивал следующую фразу, выше вскидывал подбородок — воодушевлял. О многом мечталось в эти минуты, понимал: вынесло его с этими вот ребятами на гребень доброй волны. Быть им теперь летчиками. А не всем ведь так повезло. Многие вернулись ни с чем назад.
Пока цена этому «быть» не так уж и велика: недосыпать, драить полы, бегать по грязи в атаку, промокнуть до нитки от дождя.
Но знал, право это может стоить и подороже: в главном корпусе училища висело больше ста тридцати фотографий его выпускников — Героев Советского Союза. Многие стали ими посмертно. Понимал, стать выпускником т а к о г о училища непросто и почетно. Потому и не помнят преподаватели серым, пустым, безразличным его лицо.
…В первые дни почему-то часто снилась мать. Скорбным было ее лицо, и она совала ему в карманы какие-то гроши, печеную картошку. Корила себя, что в родительском доме только-то и хватало хлеба, чтобы дотянуть Юру до шестого класса.
Просыпался вместе с голосом дневального:
— Подъем!..
Бежал на зарядку, а сон не оставлял его. И он в простодушии думал: «Вот кончу училище и куплю ей оренбургский пуховый платок».
Он уже видел эти всемирно известные платки и кое-что даже слышал про необыкновенных коз, пух которых так красив, так легок, что платки из него собирают золотые медали брюссельских, лейпцигских, монреальских и парижских выставок. Большой оренбургский платок нежнейшего пуха проходит сквозь обручальное кольцо.
Говорят, что этих коз однажды купили англичане. Но не прижились они на сочных, влажных пастбищах. Затосковали по своим губерлинским горам и солончакам, по широкому раздолью и суховеям, по щедрому солнцу и ярким ночным созвездиям и очень скоро погибли все до единой. Прослышав об этом, губерлинцы очень горевали и уж больше не продавали коз не за какое золото.
…А пока что Юрий Гагарин садился за парту смеете с теми счастливцами, кому повезло выдержать конкурс. Сам экзамены не сдавал, от них его освободил диплом с отличием. Похожие друг на друга в защитных гимнастерках, с голубыми курсантскими погонами, остриженные под машинку, они пока еще не спаяны в одну большую семью, еще не разделены на группы и пары, на ведущих и ведомых.
…Зауральная роща раньше обычного покрылась пушистым снегом. Деревья стояли в кружеве инея. Искрился, слепил морозный день. Тридцать ниже нуля. А по расписанию — тактические занятия. Выстроились повзводно — и через Урал по пешеходному мосту — в рощу. Училище было еще в Европе, а на занятия ходили в Азию.
— Взвод! Занять оборону! — волевые нотки в голосе Гагарина заставили курсантов собраться, и все старательно начали окапываться.
Только окопались и залегли, как последовала другая команда:
— В атаку! За мной! Ура!
Мальчишеская фигурка Гагарина уже маячила впереди. Он с разлета кидался в нетронутую целину снега, полз по-пластунски, замирал после собственной команды:
— Воздух! Воздух!
Юрий решил: раз уж для того, чтобы стать летчиком-испытателем, прежде нужно быть хорошим солдатом, он будет им.
Значит, опять: «В атаку!», «Ложись!» Уже промокли насквозь гимнастерки, от шинелей клубится пар; все собранней ползли по снегу, летели кубарем с обрыва и чувствовали, что каждый мускул подвластен им.
В училище возвращались разгоряченные. Под ногами в такт солдатской песне скрипел снег, и встречные невольно подравнивали штатский шаг, и девушки прихорашивались, и старики становились осанистей — шла армия! После отбоя засыпали тотчас, чтобы утром вместе с голосом дневального ощутить пружинистые мускулы и ту здоровую легкость во всем теле, что так щедро дарит только молодость…
Утро 8 января 1956 года выдалось особенно морозное. Празднично сверкал за окнами первозданной белизной снег. Делая зарядку, Гагарин тихонько напевал: «Мороз и солнце — день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись….» Необычная приподнятость, торжественность чувствовались во всем. Присяга!.. Сегодня будут принимать присягу на верность Родине.