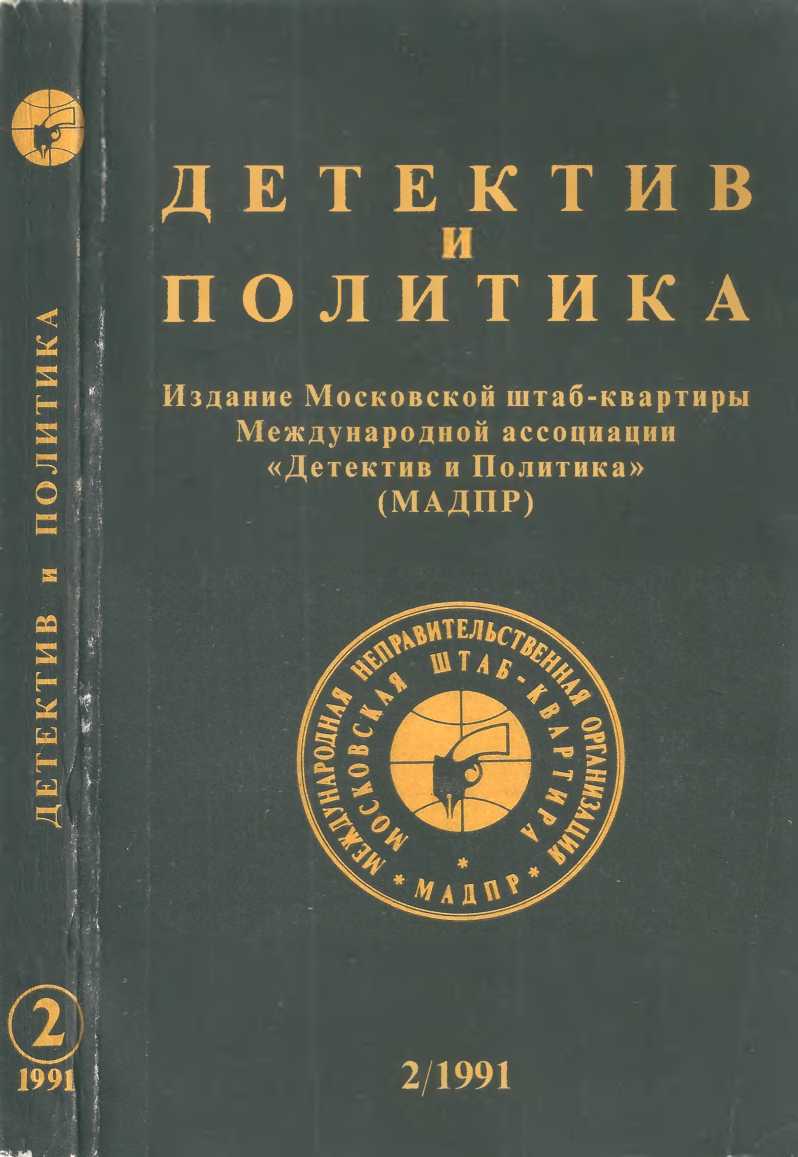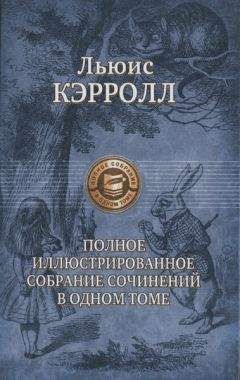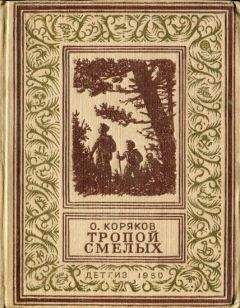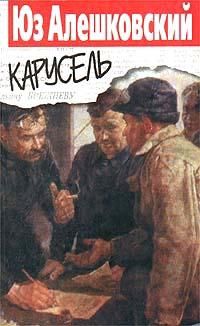единственная собака, которая ко мне хорошо относится, да? Одна-единственная. О, бога ради, не думай, что я пьян. Мы немного вылили с Гришей, но это неважно. Как только у меня появятся деньги, я приду, чтобы тебя украсть. Потом мы смоемся отсюда, и ты останешься у меня навсегда.
— Что ты говоришь мишке? — спросила Леночка.
— Так, болтаем о том о сем.
Я присел у забора и закурил, одну сигарету, потом другую. Я смотрел, как играет с Михайло Михайловичем маленькая Леночка, как пытается опрокинуть собаку на землю, и собака милостиво принимает ее игру, и дал себе слово, что когда-нибудь обязательно украду ее. И пусть мне самому будет нечего жрать, но я все равно буду таскать за собой с одного на другой край света это большое, лохматое и горячее тело, одарившее меня своим расположением. А потом мы вернулись домой. Гриша уже сидел у барака и курил.
— Ну как, Гриша? — спросил я. — Помирились?
— Нет, — ответил он.
— Ночь вас помирит.
— Может быть. Сходи посмотри, как она там.
Я вошел в барак; Лена лежала на кровати. Я никогда меж них не встревал, но сегодня, по-моему, он хватил через край. Лицо у нее было распухшее, в синяках. Он это умел: накрутит ее волосы на кулак, так что она не может шевельнуться от боли, а другим кулаком молча ее валтузит. Лена осторожно повернулась ко мне.
— Вот за что? — сказала она. — Что взяла ребенку поесть? Так ведь не себе же.
Я стоял и молча глядел на нее, в углу валялась растоптанная плитка шоколада. Я машинально наклонился и, не отдавая себе отчета, поднял ее. Потом снова глянул в заплаканное, разбитое лицо Лены.
— Все будет хорошо, Лена, — сказал я.
— Слишком часто это говорите. Вы с Гришей.
— Все будет хорошо, — повторил я, глядя на липкую массу в руке. Я уже знал, что так оно и будет.
Я подошел к Лене и протянул руку, мне хотелось ее приласкать, но она отшатнулась и забилась в угол кровати, как собака, которая шарахается от палки, — Лена меня боялась. Да, я уже знал, что ничего другого не остается. Я вышел из барака и присел рядом с Гришей. У меня в руке все таяла треклятая шоколадная плитка, а бросить ее почему-то мне было неловко. Иногда человек сам себя не понимает, и это плохо.
— Черт побери, — сказал я, — мое дело маленькое, но ты это зря, Гриша. Ведь она не для себя. Мать — она и есть мать. А что тип этот к ней пристает, дело другое. Его мы отвадим. Гриша, Лена — красивая женщина. Мне она самому нравится.
Он вдруг поднялся и встал передо мной, тяжелый, высокий; лица я в потемках не разглядел.
— Послушай, сердце, — тихо сказал он. — Пусть Лена сама ест, что от него получает, он уж два месяца к ней клеится. Пусть ест на здоровье. Но зачем давать моему ребенку? Я предпочту, чтобы ребенок голодал.
Он замолчал, а через минуту-другую снова заговорил:
— Все равно я не оставлю эту страну, пусть даже некому будет меня схоронить. А вот тебя я никак не пойму: ведь ты — не еврей и можешь отсюда уехать. Но я — еврей, и я останусь здесь. И каждый день буду все начинать сначала, пока не найду место и не начну работать. И не в том дело, что мне приходится тяжело, потому что тут всем было тяжело, а если и не всем, то таким, как я, — обязательно. Просто у меня нет выхода, потому что если я уеду отсюда, то никогда больше не смогу остановиться, не смогу отдохнуть и не буду знать, что предстоит мне завтра. Ибо это будет излишним. Ведь на самом деле все так, как в молитве. Понимаешь?
— Понимаю, — ответил я. — Есть только один Бог и только одна земля.
Я почувствовал в руке что-то липкое, мерзкое; это был шоколад, я его бросил.
— И это все, — сказал Гриша.
— Да, — сказал я. — Это все. Но женщины…
— Что женщины? — прервал меня Гриша. — Может, выходя за меня, она думала, раз я еврей, то умею делать деньги. Мне-то что до этого? Я не уеду отсюда.
— Верно, Гриша, — сказал я. — Ты отсюда не уедешь. Мы вскоре найдем работу. Вот увидишь.
— Обязательно, — сказал он. — Пойдешь купаться?
— Пойду, — сказал я. — Почему бы не пойти?
Мы разделись донага и вошли в море. Нас никто не мог видеть: люди или спали, или старались уснуть; они лежали в постелях, тяжело хватая ртом воздух, а воздуха не было, не было, словно Бог решил еще раз испытать свою землю и живших на ней людей. Я чувствовал, как по мне течет пот, как щекочет кожу; и мне мерещилось, что я ощутил его еще в воде, когда плыл во тьме рядом с Гришей — в воде, не дающей успокоения.
Кончался второй день хамсина.
Я сразу его увидел; он пил пиво, то самое, что я обычно заказывал здесь официанту, дарившему меня бескорыстной симпатией. Он удобно развалился на стуле и пил пиво, одетый в чистую белую рубашку с рукавами, которые были кем-то подвернуты — аккуратно, любовно. Я присел к нему за столик, и он спросил:
— Что будешь пить?
— Пиво, — ответил я. — То же, что и ты.
— Хорошо, — сказал он. И обратился к официанту: — "Голд стар".
И тут мне что-то вспомнилось.
— Нет, — сказал я. — Хочу содовой. С коньяком.
Он не мешал мне пить, он ждал. Нравился он мне, и это было хуже всего. Я ничего не мог поделать с собой, омерзительное ощущение. Я знал мужиков, которых связывала самая нежная дружба с любовниками собственных жен, теперь я их понимал. Тут то же самое; я, например, считаю, что Иуда любил Иисуса Христа больше, чем другие апостолы, а что продал Его за тридцать сребреников, так это совершенно другая история, все равно он верил в Него больше всех остальных. Вот ведь беда: с течением времени приходишь наконец к настоящей простоте, но тогда уже в общем-то незачем жить.
Ну так как? — спросил он.
— Что нужно сделать?
— А вот что.
Он вытащил из бумажника золотые часы с тоненькой браслеткой и положил их на стол перед собой.
— Пойдешь с Евой в гостиницу, — сказал он. — Разденетесь, ляжете, и тогда ты попросишь ее принести попить. Или дождешься, когда она пойдет в…
— Знаешь что, — сказал я. — Как-то в Берлине в одном пансионе хозяйка сказала, что если мужчина не отливает в умывальник, то,