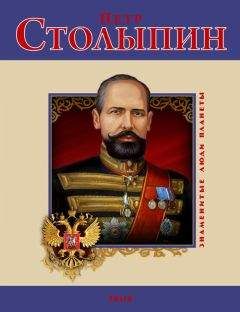Андрей Гончаров
Два выстрела во втором антракте
© Гончаров А., 2016
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
Глава правительства Российской империи Петр Аркадьевич Столыпин был не в духе. Внешне он этого, разумеется, никак не показывал – привычка все время быть на людях, контролировать выражение лица помогала. Сидя в правительственной ложе Киевского оперного театра, премьер откинулся в кресле, смежил веки, лицу придал выражение глубокой задумчивости. Со стороны всякий бы сказал, что Петр Аркадьевич наслаждается шедевром композитора Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». На деле же премьер вовсе не наслаждался, а отбывал повинность – как на каком-нибудь заседании Государственного совета, если там выступал кто-нибудь из сенаторов, известных своим тупоумием. Ничто его не радовало: ни музыка знаменитого композитора, которую критики находили божественной, ни голоса солистов, ни яркие декорации. Музыка казалась чересчур громкой, певцы, как мнилось премьеру, дружно фальшивили, костюмы царицы Милитрисы и царевича Гвидона были неестественно яркими. Тьфу на все это! Встать бы да уйти, да нельзя – рядом император, который явно испытывает удовольствие от оперной сказки. Вот – изволит улыбаться, кивает в такт музыке.
За годы пребывания на государственной службе, и особенно за последние пять лет, после того как возглавил кабинет, Петр Аркадьевич достаточно изучил российского самодержца. Отношение его к императору было противоречивым. С одной стороны, премьер глубоко уважал самодержца за порядочность, честность, душевное благородство; не мог не отметить его глубокую воспитанность, внимание к подчиненным, искреннюю заботу о вверенном ему государстве. Нет, Николай Александрович отнюдь не был легкомысленным и самовлюбленным вертопрахом, как многие люди его круга. Однако премьер видел и другую сторону личности самодержца – медлительность, нерешительность, слабость характера. Да и умом император был не больно остер, надо признать.
Особенно эта противоречивость в характере императора и в его отношениях с премьером стала заметна после мартовского кризиса, когда Петр Аркадьевич, столкнувшись с дружным сопротивлением его планам в Государственной думе и не найдя поддержки у государя, заявил о своей отставке. И вопрос-то был не из самых важных, об учреждении земств в Западном крае, где Столыпин собирался дать дополнительные права русским и белорусским жителям и тем ослабить влияние богатой польской шляхты. Вопрос, может, и не самый важный, но премьер больше не мог терпеть такого отношения к себе. Приближенные отговаривали его от этого шага, говорили, что нельзя так рисковать, предъявлять государю ультиматум. Они не понимали главного: это была совсем не игра, Столыпин в тот момент вовсе не рисковал, не делал никаких ставок. Он искренне был готов уйти со своего поста – как сейчас из Киевского театра, с постылой оперы. Тогда, после конфликта с правым большинством Думы, он внезапно ощутил свое глубочайшее одиночество. Если уж Гучков, Трепов, Дурново не поддерживают его начинаний, то от кого же тогда ждать понимания? Не от эсеров же с эсдеками, готовых залить Россию кровью!
Да, тогда он был готов уйти. Но судьба распорядилась иначе: вдовствующая императрица Мария Федоровна повлияла на сына, объяснила ему важность сохранения Петра Аркадьевича во главе кабинета. И царь принял его условия, все сделал, как хотел Столыпин. Однако его отношение к премьеру изменилось. Некий холодок, который возник еще пару лет назад, усилился; словно ледяная стенка возникла между российским самодержцем и его первым помощником. И этот холодок все чаще заставлял Петра Аркадьевича задумываться: для кого он старается? Кому нужна его лихорадочная, поспешная деятельность? Ведь за последний год он ни от кого не слышал ни слова поддержки или одобрения. Стоит ему допустить хоть малейший просчет – и сразу раздается злорадное улюлюканье, вопли осуждения. Тошно, ах, тошно… Зря он вообще поехал в Киев на эти торжества, связанные с открытием памятника царю-освободителю. Лучше бы остался в Петербурге, занялся работой. Предстоят новые преобразования, призванные развить банковское дело, облегчить получение крестьянами кредитов; один Крестьянский поземельный банк с этим не справляется. Да, лучше было не ехать… Но как не поедешь, если император повелел? Ага, вот и аплодисменты. Стало быть, второе действие закончилось. Хорошо – можно будет пройти в курительный салон для важных гостей и там в тишине выкурить сигару…
Однако надеждам премьера не было суждено оправдаться. Едва начался антракт, как к ложе подошел министр двора барон Фредерикс и завел речь о нуждах его ведомства. Требуются средства, чтобы провести электрическое освещение во все помещения Зимнего; кроме того, необходимо провести ряд ремонтных работ в Царском Селе… Барон был известен своим редкостным тупоумием и столь же редким занудством; отвязаться от него не было никакой возможности. Но и сидеть в ложе, беседуя, тоже не хотелось. Столыпин встал, вышел из ложи и прошел к оркестровой яме, где двое скрипачей, пользуясь перерывом, тихонько настраивали свои инструменты – видимо, их звук чем-то не устраивал музыкантов. Звуки настраиваемых инструментов отчего-то всегда нравились премьеру. Размышляя над этим феноменом, он как-то подумал, что в этих упорно ищущих гармонии звуках есть нечто общее с обществом в состоянии больших реформ – и там, и здесь согласия пока нет, но оно обязательно отыщется. Теперь он, вполуха слушая барона, в то же время внимал доносившимся из ямы обрывкам мелодий.
«Ладно, пусть так, – размышлял Столыпин. – Как начнется третье действие, старый болван наконец отвяжется, и тогда можно будет пойти покурить. В курительном салоне уж точно никого не будет. Это хорошо…»
…Старший сотрудник Киевского охранного отделения Василий Лисович скромно сидел на приставном стуле в шестом ряду партера и смотрел спектакль. То есть это со стороны могло показаться, что старший сотрудник всецело поглощен происходящим на сцене. На самом деле Василий Лисович работал. И смотрел не столько на сцену, сколько в зал. Особое внимание он уделял людям, сидевшим в императорской ложе и рядом с ней. На нем, как и на прочих сотрудниках Охранного отделения, находившихся в тот вечер в театре, лежала особая ответственность: ведь в данный момент здесь находились оба человека, олицетворявшие высшую власть в империи – и государь император, и глава правительства. Никак нельзя было оплошать, никак! Вот и начальник отделения господин Кулябко на инструктаже то же самое говорил. Сообщил, кстати, что в Киев в эти дни должна прибыть некая девица, принадлежащая к партии социалистов-революционеров, с целью убить кого-то из высших сановников. Так что особое внимание было приказано уделять девицам определенного вида.
Лисович это указание выполнил самым добросовестным образом. Всех особ женского пола, что находились в пределах досягаемости, осмотрел. Для этого специально захватил с собой бинокль – с виду обычный, театральный, а на деле настоящий полевой. Ну, а тех, кто сидел поближе, и так, без окуляров, осматривал. Некоторые из дам замечали ищущий взгляд агента и отвечали ему ответным вниманием. Василий Никандрович знал, что вызывает интерес у слабого пола. Недаром в свои тридцать два года он все еще не был женат. Зачем? И так можно отлично устроиться.
Интерес со стороны дам Василий Никандрович возбуждал прежде всего благодаря своей внешности. Внешность была отменная. Бледное лицо с приятными чертами, небольшие усики, черные глаза… Эту картину дополнял аккуратный пробор, разделявший куафюру агента Лисовича на две почти равные половины. В результате получалась внешность совершенно артистическая. Недаром некоторые знакомые дамы сравнивали Лисовича со знаменитым актером синематографа Иваном Мозжухиным. Конечно, для рядовой филерской работы такая приметная внешность являлась скорее недостатком, но Лисович на рядовой работе находился совсем недолго; большую часть службы он провел, вращаясь в студенческих и артистических кругах, где подобный облик был как раз кстати.
Пока что особа, подходящая на роль бомбистки, не находилась. А Василий Никандрович за шесть лет службы таких особ научился отличать. Как правило, эти пассионарные девицы были нехороши собой и не старались это скрыть и как-то выделить привлекательную часть своего облика. Хотя случались и исключения. В прошлом году Лисович своими глазами видел девицу, с которой он сам очень был бы не прочь пообщаться где-нибудь в будуаре. Шикарный бюст, точеная фигурка, брови – ах! А между тем эта красотка была схвачена в момент, когда уже достала револьвер и собиралась стрелять в киевского градоначальника. Так что всякое могло быть, и нельзя было выделять одних лишь дурнушек; еще и на поведение надо было смотреть. И Лисович внимательно смотрел, анализировал – но пока что ничего подозрительного обнаружить не мог.