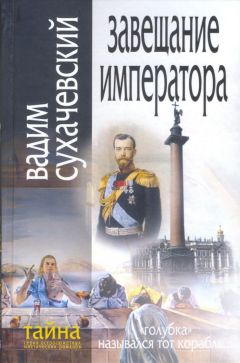Что если отечество ваше... Конечно, в случае, если вы, — притом, что вы знаете о себе, — вообще можете соотносить себя с каким-либо отечеством... Что если оно под конец каждого века, в своем порыве к некоему окончательному знанию, ставит себя на ту самую грань меж бытием и небытием? И — перешагивает через нее!.. Но что там дальше? То же самогубительство, та же грань, то же небытие! Одна и та же бесконечная цепь, сколько звенья ни перебирай! Замкнутый круг, — как сказали бы те же самые, квирл, квирл, индусы, — кольцо перевоплощений.
Может быть — вот уже — в который раз — мы эту грань перешагиваем? Какой там у нас нынче век?.. А какой дальше будет?.. Какая разница — все одно!
Впрочем, это всего лишь небольшое отступление, не имеющее непосредственного касательства к вашему делу... если взвешивать на неких весах всемирной значимости, то, несомненно, более...
* * *
"Прочь, прочь, птица!.."
Пламя в камине еще раз напоследок ударило оранжевым крылом и улеглось. И в этом всполохе, Боже, там, в этом всполохе…
…чего и помыслить-то!..
…о чем и сказать-то!.. даже себе!..
И хотя читал сейчас государь совсем об ином (фон Штраубе каким-то прорезавшимся запредельным чутьем знал это), но как теперь понятна была печаль на государевом лике, эта скорбь в голубых глазах! Неужели остальные здесь ничего не замечали?..
"...После этой несколько театральной многозначительности, какую умеют создавать, наверно, во всех дворцах мира, после гробовой тишины, длившейся, казалось, вечность..."
"...После воцарившейся тишины, поистине мистической значимости..."
Лицо его императорского величества обрело прежнюю решительность. Он закончил чтение и впервые поднял глаза на присутствующих.
Государь. Господа!.. (Решительность на его лице сменяется неуверенностью.) Однако... это ужасно, господа...
…Долгая пауза…
…Главный смотритель Тайной канцелярии смотрит то на государя, то — пристально — на фон Штраубе, и нос у него чуть изгибается, вновь становясь неуловимо птичьим. Он, без сомнения, что-то знает…
… Такая тишина, что слабый шепот камина кажется рокочущим гулом…
(Обрывающимся голосом, будто воздуха недостает.) Господа... Я даже не знаю, как... После того, что здесь... (Вопросительно смотрит на хранителей.)
…У тех глаза вовсе остекленели. Стоят, вытянувшись так, что поджилки, кажется, вот-вот полопаются…
(Снова решительно, хотя это уже скорее решимость перед шагом в бездну.) Господа. В свете ставшего мне известным, а также ощущая бремя ответственности, возложенной на меня свыше... (Внезапно комкает бумагу в руках.)
…Хруст мнущейся бумаги сливается с бессловесным выдохом толпы…
…Нахожу единственно возможным...
…Скомканная бумага летит в камин…
…Не хочет гореть, в последних судорогах, как живая, — "Квирл! Квирл!" — корежась, отодвигается от огня…
…Наконец пределы сопротивления иссякают, она вздыбливается и вспыхивает ярчайшим, словно магний, пламенем…
* * *
Квирл, квирл!
А вы, никак, чего-то иного ожидали?
* * *
"И снова — прочь, прочь!"
Ибо в этом всполохе, внезапно замершем, как выдернутое беспечным фотографом, тайком уворованное из вечности мгновение, в этом всполохе, пока буквы старинной вязи еще проступали на чернеющей бумаге и еще не умер в огне их тайный смысл…
…ибо в этом всполохе фон Штраубе уже увидел, прочел то, зачем пришел сюда...
И еще он увидел там прорубь с черной водой и горящую в ясном дневном небе звезду...
И еще он увидел, еще... Ах, лучше бы, лучше бы он этого и не видел…
…он увидел, как головы императора и императрицы, отчлененные от тел, с мертвыми глазами, чьи-то руки извлекают из банок с формалином и швыряют — нет, не в этот камин, а в какую-то другую, коптящую, тесную печь…
…Боже, кочерга! В этих страшных руках — еще и кочерга!..
* * *
Птиценосый хранитель Тайной канцелярии, по взгляду разгадав желание государя, своей холеной рукой взял с околокаминного приступка кочергу и принялся измельчать даже самый что ни есть прах.
Государь (голосом опять твердым, хотя и несколько приглушенным.) Господа. Видит Бог, это во имя блага. Так лучше, господа, видит Бог! (Повернувшись на каблуках, стремительно покидает залу по той же боковой лестнице.)
…Члены семьи уходят вслед за ним…
…Безмолвие, переходящее в слабый ропот разочарования…
…Чуть слышное шарканье шагов по ковру…
…Камин потрескивает…
… Конец! Всё!..
…Сразу по выходе из дворца, прямо на площади к фон Штраубе, все еще не пришедшему в себя, пребывавшему почти в сомнамбулическом состоянии, подступили те двое в котелках, зажали с боков, чтоб ни шагу в сторону, как-то, впрочем, умело делая при этом вид, что с ним не знакомы, и, за всю дорогу не произнеся ни слова, вынудили его направляться по маршруту, известному только им двоим.
6
Котелки
После длительного путешествия по морозу, — даже в шапке и куньей шубе фон Штраубе успел изрядно прозябнуть, а по-прежнему безмолвные котелки за все это время не проявили ни малейшей чувствительности к холоду, даже не подняли воротников своих черных пальто, — после плутания в каких-то неведомых переулках они наконец завели его в мрачный, пропахший кошками подъезд и по темной лестнице препроводили на четвертый этаж.
Квартира, правда, в которую его ввели, имела вполне благопристойный вид. В прихожей странные господа приняли у него шубу, сами сняли свои черные пальто, почему-то оставшись, однако, в котелках, которые, в дополнение к черным пиджакам и черным галстукам на белых манишках, делали их похожими на похоронных агентов. Комната, куда его вслед затем ввели, выглядела еще более благоухоженно — полы блестели вощеным паркетом, на стенах висели гобелены и ковры, на окнах шелковые портьеры с кистями, а мебель, хоть и не первой новизны, в некоторых местах даже была инкрустирована перламутром. Только здесь, усадивши фон Штраубе в мягкое кресло, котелки наконец снизошли нарушить безмолвие.
— Вот и снова свиделись, господин лейтенант, — сказал Коротышка.
— Не взыщите, что без предуведомления, — добавил Крупный.
— Тем более что…
— ...разговор у нас предстоит долгий.
Как и тогда, при первой встрече, они вели разговор в весьма своеобразной манере: один начинал, а другой без всякой паузы тут же подхватывал; складывалось такое впечатление, что в действительности говорит некто вовсе третий, а эти двое лишь вовремя раскрывают рты, чтобы посторонний не обнаружил разнобой.
— Может быть, господин лейтенант с морозца…
— ...желает рюмочку коньяку? Тем более что разговор нам предстоит долгий, весьма долгий...
— ...и, полагаю, небезынтересный…
— ...в первую очередь, для самого господина лейтенанта.
— Благодарю вас, господа, — впервые разомкнул уста фон Штраубе. — Не изволите ли все-таки сперва объясниться, в чем причина моего задержания? Или, быть может, уже ареста, — не знаю как назвать.
— Как можно?! "Задержания"!..
— Тем более — "ареста"!
Брови у обоих недоуменно вздернулись, образовав под котелками четыре одинаковые дуги.
— Мы вас просто пригласили…
— ...возможно, не в слишком изысканной форме...
— Да уж, — согласился фон Штраубе.
— ...но, во всяком случае, вы добровольно... — не заметив его реплики, продолжал Коротышка.
— ...совершенно добровольно!.. — вторил Крупный. — Наш незыблемый принцип — абсолютная добровольность, никакого насилия! Посему…
— ...как все-таки в отношении коньяка, господин барон?
— Ладно, — сдался фон Штраубе, — пускай будет "добровольно", пускай коньяк. Но все же, господа, я хотел бы выслушать ваши разъяснения. В чем дело? По какому вы, собственно, ведомству?
— Вот, иной разговор! — обрадовался Крупный. — Рад, что вы наконец…
— ...начинаете что-то себе уяснять, — закончил Коротышка, умело и быстро сервируя стол, на котором тут же появились маленькие серебряные рюмочки, кружочки порезанного лимона и бутылка настоящего французского коньяка. (Несмотря на его любезный тон, фон Штраубе, наблюдая за этими манипуляциями, все же по старой памяти каждый раз вжимался поглубже в кресло, когда вблизи оказывался его ловкий остренький локоток.)
Все было готово в минуту. Котелки одновременно выдохнули "Prosit!" и неспеша выпили, смакуя букет. Фон Штраубе лишь пригубил из своей рюмки (коньяк, впрочем, был, действительно, отменный) и, дождавшись, когда они проглотят по кружку лимона, сказал: