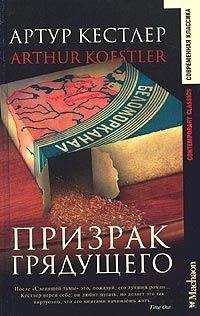— А что там за значки после имен? — полюбопытствовала она.
— А вы догадайтесь. Вы же такая умница!
Удивительное нахальство! Еще более удивительным было то, что она позволяла ему так себя вести. Он понимает, как обходиться со мной, подумала она. Улыбнувшись до ушей, как догадливая ученица, она отбарабанила:
— Я подумала, что вы ставите каждому оценку за любезность, политические взгляды, сексуальность и кто знает, что еще. Я права?
Он все так же улыбался ей с поощрительной насмешкой.
— Да. Все мы играем в маленькие тайные игры, правда?
— Думаю, это гадкая игра — делить людей на категории.
— Разве? Что же здесь гадкого? — Ее замечание вызвало у него неподдельное изумление.
— Ну как же — это все равно что браковать скот, клеймить овец или метить деревья для вырубки.
— И что же в этом плохого? Категории приходится различать, разве нет?
Она пожала плечами и решила сдаться.
— Лучше угостите меня, раз мне пришлось столько из-за вас пережить.
Он поднял короткий палец, и запыхавшийся официант каким-то чудом мгновенно заметил сигнал и поспешил к ним, лавируя между столами. Хайди была сражена.
— Если бы я вела свой список, я бы поставила вам за это восклицательный знак, — сказала она.
— За что? — Всякий раз, когда до него не сразу доходил смысл ее слов, на его лице снова появлялось выражение настороженности и недоверчивости, почти что агрессивности, как у обидчивого подростка.
— За то, что вам удалось поймать взгляд официанта, — объяснила Хайди. — С точки зрения женщины, это показательный тест.
— А-а, понимаю. На властность, да? — Он улыбнулся, определенно пораженный женской проницательностью.
Хайди заказала подошедшему официанту перно. Федя восхищенно посмотрел на нее.
— Вы пьете ЭТО?
— Да, мне нравится.
— Очень сильная штука. Если выпить ее слишком много, можно потерять зрение и…
— Потенцию, — пришла ему на помощь Хайди.
Он во второй раз одарил ее откровенным, прямым взглядом, от которого у нее перехватило дыхание. Он не произнес ни слова, и Хайди стала отчаянно придумывать, что бы еще сказать. Наконец, она решилась броситься в омут с головой.
— У вас в стране все такие скромники? Но оказалось, что она нырнула в довольно теплую
воду бассейна, освоенного множеством пловцов еще с незапамятных времен.
— Скромники? Дома мы говорим о естественных вещах естественно.
— Тогда почему вас покоробило мое естественное замечание о предполагаемых свойствах перно?
Он улыбнулся и неожиданно мягко сказал:
— Вы говорите не естественно, а фривольно.
Официант принес заказ. Рассматривая желтую жидкость в рюмке, мутной пеленой окружившую кубик льда, она поймала себя на том, что кусает губу. Плохой признак. Федя подозвал официанта и одним глотком опрокинул свою рюмку.
— Еще две порции, — бросил он пораженному официанту.
— Боже! — вскричала Хайди. — Разве можно поступать так с перно?
— А что? — Он дружески улыбнулся ей, показывая зубы. — Дома мы всегда так пьем.
— Но это же не водка.
— Нет. Это с запахом духов.
Он мирно поставил рюмку на стол. Даже выпивка у них пахнет духами. Вероломная Капуя! Солнце ласково освещало спинки плетеных стульев на террасе и сидящих на них прелестных женщин, размышляющих о том, с кем лечь в постель в следующий раз. На площади Согласия образовалась пробка из-за очередного парада в честь взятия Бастилии, и все таксисты и прочие водители беспрерывно гудели, забыв о хороших манерах. Сколько ждать вторую порцию? Желание выпить еще было единственным напоминанием о вчерашнем потрясении. Подумать только, что еще за пять минут до того, как его позвали к телефону, он терялся в догадках, что его ждет — Караганда или Заполярье!… И все из-за этой дамочки с лицом ангела при течке!
— Хотите пойти со мной в оперу? — спросил он с коротким кивком, обретая прежние церемонные манеры.
Вопрос прозвучал настолько неожиданно, что она чуть не подпрыгнула. Она как раз раздумывала о том, зачем ей все это понадобилось, как из всего этого выбраться, и хочется ли ей из этого выбираться.
— А вы любите оперу? — неуверенно спросила она.
— Конечно. Самая демократичная музыка, уступающая только хоровому пению.
— В каком смысле «демократичная»?
— Устав от музыки, вы можете разглядывать сцену. Устав от сцены, можете снова слушать музыку. Так необразованные массы приобретают привычку к музыке. Если вы поведете колхозников на симфонический концерт, их сморит сон.
— Неужели на все необходимо смотреть с точки зрения образования?
— А как же! Так говорил даже аристократ Лев Толстой. А еще греки — Платон, например. Только ваши декаденты называют целесообразность в искусстве тиранией и регламентацией. Ну и пусть болтают!
Объясняя ей что-то, он говорил ласковым, теплым голосом, каким терпеливый учитель разговаривает с отстающим учеником. Кроме того, стоило затронуть абстрактные материи, как его французский становился более точным, как всегда происходит с людьми, учившими язык по книгам.
— Разве не ужасно, когда над поэтом или композитором довлеет цензура?
Он одарил ее снисходительной улыбкой.
— Цензура существовала всегда. В зависимости от классовой структуры общества менялись только ее формы. Данте, Сервантес и Достоевский творили в условиях цензуры. Литература, как и философия, всегда подвергалась регламентации, как вы это называете, со стороны церкви, князей, законов или реакционных предрассудков общества.
— Как насчет Греции?
— Что случилось с Сократом, а? Мы обходимся с людьми, проповедующими дурную философию, куда более культурно.
Он отправил второе перно следом за первым, не переставая улыбаться. Теперь он предстал совсем другим человеком по сравнению с тем, каким он казался вчера. Что за немыслимая смесь противоречий! Но говорил он просто и с полной убежденностью в своей правоте — в этом и состояло его превосходство над ней. У него есть вера, подумала она, сгорая от зависти, ему есть во что верить. Это и делало его таким замечательным и совершенно непохожим на людей, которых ей обычно доводилось встречать, — непохожим на нее, на ее отца, не говоря уже о клубе «Три ворона по кличке Невермор». Наконец-то ей повстречался человек, не запертый в стеклянную клетку.
В такси, увозящем ее домой, она отдала ему записную книжку. Он небрежно сунул ее в карман.
— Почему вы не хотели, чтобы я отдала ее вам в кафе? — спросила она.
— Да просто потому, — ответил он, улыбаясь ей своими светло-серыми глазами, — что тогда у меня не осталось бы времени пригласить вас в оперу.
Дома ей сообщили, что звонил мсье Жюльен Деллатр и оставил номер своего телефона.
Одно из самых ранних воспоминаний Хайди было о том, как однажды ее разбудила мать. На матери вечернее платье из белого шелка. Она оставила дверь детской распахнутой, и в комнату проникают звуки играющего внизу граммофона, человеческие голоса и смех. Джулия Андерсон упирается рукой в стену в том месте, где висит картинка, изображающая Дональда Дака, словно пытаясь оттолкнуть стену от себя, и тело ее раскачивается, как раскачивались потом однажды люди на корабле во время шторма, когда Хайди тошнило. Она смотрит на Хайди, сжавшуюся в кроватке, и Хайди с ужасом замечает, что глаза у матери сильно налились кровью, как у сенбернара, так что между верхним веком и белком образовался красный ободок.
Сонная Хайди пугается еще сильнее и начинает хныкать. Мать, не сводя с нее глаз, ковыляет по комнате, все время отталкивая от себя грозящую наехать на нее стену. Она пробует улыбнуться Хайди, но из-за набухших глаз улыбка превращается в злобную гримасу. Она шепчет непонятные Хайди слова, то и дело хихикая и икая. Из ее рта доносится чудовищный запах. Хайди отодвигается к стене, но пальцы матери с острыми, покрытыми эмалью ногтями дотягиваются до нее и впиваются в тело. Наконец, до Хайди доходит, что мать хочет поиграть с ней в лошадки.
— Я лошадка — как папа, как папа, — пылко повторяет Джулия и неожиданно опускается на корточки, не обращая внимания на рвущийся шелк. Она описывает по полу круги, не переставая хихикать. Наступив коленом на подол, она прорывает в нем огромную дыру. Затем, оказавшись у постели Хайди, она снова тянет ее к себе, приговаривая:
— Пойдем, милая, поскачем вниз по лестнице! Неожиданный рывок — и она силком сажает Хайди себе на спину.
— Почему ты не мальчик?! Тогда ты могла бы скакать, как полагается…
Они вместе ползут по полу. Потом — толчок, падение, Хайди чувствует, что летит вниз, и — темнота. Когда она просыпается вновь, рядом с ее кроваткой сидит отец.
— Все нормально, Хайди, — говорит он, — мама больна, у нее мигрень.
Мать часто лечат от мигрени в больнице; кроме того, она подолгу лечится дома, где слоняется без дела с серым лицом, не произнося ни слова, не зная, куда себя деть, то и дело заливаясь слезами, почти не прикасаясь к пище и неожиданно поднимаясь из-за стола, отставляя полную тарелку. Слугам приходится передвигаться на цыпочках; все домочадцы ходят, приложив палец к губам. Хайди знает, что следует держаться от матери подальше, так как она утомляет и расстраивает ее. Она знает, что виновата во всем сама, потому что не родилась мальчиком. Усилия быть невидимой и неслышной парализуют ее. Ее жизнь протекает, словно в гагачьем пуху.