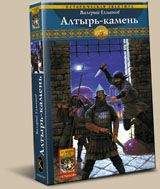— А если не он, то кто?
— Князь Рубец-Мосальский переиначил, — пояснил он. — Сказывал, темная-де ты птица. Ежели тебя в живых оставить, невесть чего в царевичево ушко накукуешь. Уж больно в чести ты у государя стал — эвон сколь он с тобой времени-то проводит. Егда ты иной веры был — одно, а ныне православным стал, выходит, вдвойне опаснее. — И похвалился своей честностью: — Зри, яко на духу перед тобой. Ничего не утаил.
— Ишь ты, — улыбнулся я. — Вам уж и вера моя не по душе пришлась. Вроде ваша родная, радоваться должны…
— Не в вере суть, — пояснил Шерефетдинов, — а в крестном отце. Памятаешь, кто он?
— А как же.
— Вот и мы… памятаем. Да и то взять — обида. Своих воевод исказнил, а басурманина не стал. А ведь приговор для всех един был. Вот и пришло времечко, чтоб по правде все сбылось. Тока ты зубы мне не заговаривай, — предупредил он, не подсобит. Я настороже и, яко пан Станислав, на рожон не полезу.
— Какие уж там зубы, когда я весь в твоей власти, — вздохнул я, легонько тыча носком сапога в бок Гнедко, чтобы он встал поближе к Шерефетдинову.
— Ну то-то, — кивнул он. — Тока боярин сказывал, чтоб допрежь того, яко на тот свет отправить, выяснить, доподлинно ли у тебя некая грамотка пребывает? Потому ларец достань, а сам стой себе смирнехонько да молись, покамест я на нее глядеть стану.
— Понял, — кивнул я, залезая в притороченную суму.
— И засапожника даже не касайся, а то и помолиться не дам, — сразу предупредил он, приметив слегка торчащую из голенища моего левого сапога рукоять ножа.
— Даже и не думаю трогать, — самым миролюбивым тоном ответил я, извлекая шкатулку и протягивая ее Шерефетдинову, попутно успев отвесить ему комплимент: — Хорошего человека послал князь Василий Михайлович. В смысле, подходящего, — искренне одобрил я выбор Мосальского.
— Да уж кого ни попадя не послал бы, — приосанился он. — А ларец ты сам открой, а то мне, вишь, несподручно, сабля мешается, — кивнул он на шкатулку, которую я ему протянул.
— И мне тоже несподручно, — вежливо отказался я и посоветовал: — Да и ни к чему ее открывать, — меж тем плавно вынимая из стремени правую ногу, закрытую конем от глаз Шерефетдинова, и медленно сгибая ее в колене, чтоб дотянуться до сапога.
— Это почему? — насторожился он.
— Видишь ли, если я сейчас ее открою, то боюсь, что грамотка, которая в ней лежит, окажется негодной к прочтению, так как ты, любезный друг мой… — последовала коротенькая пауза, а докончил я свою фразу, уже нежно обнимая Шерефетдинова, который уставился на рукоять моего ножа, торчащего из его груди, — испачкаешь ее своей кровью.
— Ты… — выдохнул он из последних сил, — меня уб-бил?
— Нет, всего-навсего опередил, — поправил я его и, склонившись над незадачливым убийцей, кулем свалившимся с лошади, добавил: — И спасибо тебе от всей души. Просто так даже таких козлов, как ты, я еще убивать не привык — пробел у меня в воспитании, хотя, чую, надо исправляться, пока не поздно, а ты мне здорово помог.
Он еще был жив, хотя силы явно покидали его, но добить умирающего я не мог, рука не поднималась, поэтому вместо второго удара продолжал говорить, говорить, говорить, многословно и путано, объясняя, что хорошим я его назвал лишь потому, что такого человека и убивать одно удовольствие, хотя я, дурак, поначалу отчего-то колебался.
Я болтал, пока Шерефетдинов не затих.
Но даже тогда я не смог остановиться сразу и, пока оттаскивал его за ноги в лесок, все еще рассказывал, как он вместе с Молчановым, а также князьями и боярами Голицыным и Рубцом-Мосальским придет в царские хоромы и станет хладнокровно командовать здоровенными стрельцами, которые вчетвером накинутся на ни в чем не повинного шестнадцатилетнего юнца и начнут его душить.
Вот только теперь командовать ими придется кому-нибудь другому из оставшейся в живых троицы, но ему расстраиваться ни к чему, поскольку у Федора Борисовича есть человек, который царевича ни за что не бросит, и потому добраться до славного доброго паренька смогут только через мой труп, а я помирать не собираюсь.
К тому же мне на днях кукушка накуковала семьдесят шесть лет жизни и продолжила бы еще, если бы я ее не остановил, ибо приплюсовал их к моим двадцати четырем, и получилась круглая цифра, до которой, учитывая нынешние бурные времена, если и дотяну, то дряхлой развалиной. А мне оно ни к чему…
Заткнул я свой фонтан красноречия, лишь когда бросил поверх трупа последнюю зеленую ветку, только теперь понимая, что болтовня была чем-то вроде истерики, только выраженной в своеобразной форме.
Мельком посмотрев на свои мелко дрожащие пальцы рук, я вспомнил дуэль со Станиславом и удивился. Как ни странно, в случае со своим первым покойником я не испытывал почти ничего. Или это тоже благодаря чудодейственному эликсиру Марьи Петровны?
Так и не ответив себе на этот вопрос, я неловко вскарабкался на коня и двинулся дальше по дороге в монастырь.
По пути еще успел удивиться тому обстоятельству, что, пока я трепал языком, мой мозг работал в автономном режиме, грамотно и последовательно руководя действиями бестолкового хозяина, иначе как объяснить тот факт, что узкий тонкий нож-стилет из груди Шерефетдинова я вынул уже в лесу, чтобы не осталось кровавого следа.
И не просто вынул, но тщательно вытер его об Ондрюшин кафтан, после чего — совершенно не помню когда — хладнокровно засунул его в голенище правого сапога.
Дальнейшее мое путешествие прошло как по маслу. Единственное неудобство — это голод. Хлебного каравая, как я ни растягивал его, на всю дорогу не хватило, так что последний из трех дней пути прошел натощак.
Зато воды хоть залейся — речушек на пути встречалось уйма. Вот ею и пробавлялся.
Зато поутру мой конь уже цокал копытами по наплавному мосту через Москву-реку, ведущему прямиком к Яузским воротам Белого города, а еще через полчаса я подъехал к Кремлю и… резко остановился.
Причина тому имелась, и достаточно весомая…
А с чем я пойду к царевичу, то есть теперь уже к царю, когда я понятия не имею об обстановке? Кроме сведений, почерпнутых из разговора двух коломенских стрельцов, у меня нет о ней ни малейшего представления.
Да и какое имеет значение, о чем они там между собой говорят. Тут главное — Москва, и не исключено, что в ней думают иначе.
И еще одно. Войско под Кромами либо взбунтовалось, либо вот-вот взбунтуется, словом, никакие меры не помогут. Значит, мой ученик может опереться лишь на те силы, что в Москве, а их раз-два и обчелся.