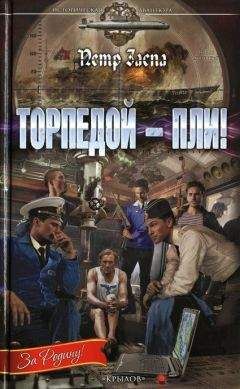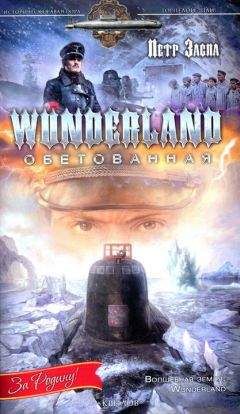Думая каждый о своем, они надолго замолчали.
Молчал Гюнтер, переваривая свалившуюся на голову информацию. Молчал Отто, задумчиво уставившись в бескрайнюю даль. Молчал Герберт, растерянно глядя на лица командира и старпома. Наконец он не выдержал и с тревогой в голосе спросил:
— Что же нам теперь делать?
— Жить, — мгновенно откликнулся Отто.
— Я не могу прийти в себя, — меланхолично произнес Гюнтер. — Все не так. Все иначе. Нет той, воюющей с целым миром Германии, и правит ею какой-то император Зигфрид. Нет фюрера.
— Ну почему же, может, и есть. Да только теперь он, наверное, рядовой обыватель. Может, картины пишет? Другие времена, другие ситуации, другие люди.
— Герберт правильно задал вопрос: что нам теперь делать?
— Топлива у нас достаточно, чтобы вернуться в Европу. Лодку придется уничтожить, она надолго обогнала это время, могут возникнуть ненужные вопросы. Растворимся среди людей и будем жить. Это мое предложение, командир. Но вообще-то я думаю о другом. Я столько знаю, что просто не могу держать в себе все доверенное мне откровение мира. Но если я начну об этом рассказывать людям, то на меня объявят охоту все дома для душевнобольных Европы. Может, мне начать писать книги, как англичанин Герберт Уэллс, выдавая свой опыт за фантазии? Как думаешь, командир, получится у меня писать книги?
— А как же Гертруда? — вдруг испугавшись, спросил Гюнтер.
— А что Гертруда? Поищи ее и наверняка найдешь. Придется только опять знакомиться, но ведь особого труда это не составит? Все ее привычки и привязанности ты знаешь. Ведь знаешь, Гюнтер?
— Да. Она любит чайные розы и австрийский горький шоколад.
— Уверен, что теперь ты покоришь ее сердце еще быстрее, чем в первый раз.
— Отто, ты как будто радуешься, что все так произошло?
— Скажу честно — да! Такой мир по мне. Тихий и спокойный, как это море. А вся эта шелуха прогресса со временем приложится. Не стоит она того, чтобы платить такую цену.
«Может, и прав старпом, — подумал Гюнтер, — жизнь всегда продолжается, даже тогда, когда кажется, что ты в ней лишний. Но это только кажется!»
Снежная вершина горы сверкала, как отполированный умелым мастером хрустальный кубок. Над блестящим остроконечным конусом поднималось утреннее солнце. Солнце третьего тысячелетия. Казалось бы, что такого? Ничего не изменилось, ничего не произошло. Так же, как и вчера, стояла эта гора, так же паслись внизу коровы, разгребая из-под снега прошлогоднюю траву. Но сегодня все говорят: прошла целая тысяча лет, и вчерашнюю газету уже не назовешь прошлогодней и даже не скажешь, что она из прошлого века, потому что она из прошлого тысячелетия!
«Смешно, — подумал он, — человечество придумало множество мнимых рубежей и безумно радуется, когда они проходят мимо буднично и незаметно».
Они сидели в оплетенной сухой лозой, сделанной им самим уютной беседке и любовались чистотой раннего солнца. Рядом тянулась к небольшому, но такому любимому дому старательно вычищенная мощеная дорожка. Чистый горный воздух, тишина и тепло родного очага. Что еще нужно для полного счастья? Она почувствовала его настроение и прижалась к плечу, распустив длинные волосы по старому, как и его хозяин, вытертому пиджаку. Он расправил ладонью уже совсем седой, но упрямый ежик на голове и обнял ее за плечи.
Она вздохнула от набежавшей истомы и тихо сказала:
— Звонил Герберт.
— Да? И что надо этому старому хрычу?
Она звонко засмеялась — годы совсем не изменили ее голос.
— Ну ты-то, понятно, у меня хрыч молодой! Они с Урсулой зовут нас съездить в Дрезден, походить по музеям.
— Да были мы уже там не раз.
— Нет, мы еще не ходили в музей эпохи колониальных завоеваний.
— Уверяю тебя, и там нечего смотреть. Привяжут огрызок трубы к доске и будут выдавать за средневековый мушкет.
— Гюнтер! Ты становишься несносным. Ты так говоришь, будто видел древний мушкет! Это ты злишься, потому что на выставке в Вене однорогая Марта Герберта дала на пол-литра молока больше и ты проиграл?
— Ничего я не злюсь.
Видя, что жена заводится, он, как фокусник, выудил из кармана конфету и помахал у нее перед носом.
— Вот за что я тебя всегда любила! — Она еще громче рассмеялась, и набежавшая тень обиды мгновенно улетучилась. — Ты у меня хоть и фермер, но в душе всегда был гусаром. Я ведь помню, как при нашем знакомстве ты завалил меня австрийским шоколадом. Ты приносил его мне коробками! И хотя я несколько лет после этого не могла на него смотреть, но и забыть тебя тоже не могла.
Она закрыла глаза, мысленно улетая в далекую молодость, но затем по ее лицу пробежала тревога.
— Очень я переживаю за Карлушу.
— Гертруда, перестань. Наш внук — офицер императорского флота! А ты говоришь о нем как о сопливом ребенке.
— Ты же слышал, что он сказал! Они собираются испытывать какую-то подводную лодку. Наверняка это очень опасно. Сам император Вильгельм будет присутствовать на испытаниях!
— Не переживай, Гертруда. Я уверен, все пройдет хорошо. В Германии во все времена умели строить лодки.
— Нет! Ну я не могу! Ты так говоришь, будто хоть раз в жизни видел эту таинственную подводную лодку!
Он не ответил, но в его глазах появилась такая тоска, что она испугалась и, легонько толкнув в плечо, спросила:
— О чем задумался, Гюнтер?
— Да так, ничего. Думаю, на какие корма перейти, чтобы обойти Герберта на выставке в этом году.
— Не переживай так! Ты его обязательно победишь.
И она еще крепче прижалась к нему и подумала: все-таки как хорошо, что в жизни все так хорошо. Так и не иначе.
А на гору уже взобралось солнце. Солнце третьего тысячелетия.