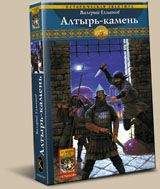Странно.
Но я не отчаивался, не сетовал на судьбу и даже не злился, лишь гадал, какие могли приключиться непредвиденные задержки, что Семен Никитич не успел или позабыл доложить обо мне Федору.
Позже, под вечер, дверные петли противно взвизгнули, и меня вытащили в другую комнату, без лишних церемоний содрав всю одежду, оголив до пояса и подвесив на веревке так, что я еле касался пальцами ног земли.
Но и в этот момент я еще на что-то надеялся.
А вот когда троица молодцев, с сожалением поглядев на меня, дружно удалилась, а я — ну так, от скуки, делать-то нечего — глянул в сторону на точно так же висящего соседа и признал в нем своего гонца Васюка, тут-то на меня нахлынула злость.
А вместе с нею пришло и осознание того простого факта, что все происходящее не ошибка, не досадное недоразумение, а куда серьезнее…
Вообще-то угадать по окровавленному, разбитому и изрядно опухшему лицу прежнего улыбчивого Васюка у меня навряд ли бы получилось. Но он сам подал голос, просипев еле слышно:
— Воевода… Здрав… буди… полков… — И умолк, потеряв сознание.
Выяснить какие-либо подробности я не успел — Васюк на мой голос не откликался, а потом в допросную или пыточную — затрудняюсь определиться с правильным названием — зашел «аптекарь».
Настроение у Семена Никитича Годунова было в точности как и вчера — на сухоньком сморщенном лице ехидненькая улыбочка, глазки лучатся, источая тепло, покой и довольство окружающим миром.
К делу приступил с ходу — видно, снедало любопытство. Но вначале все равно не утерпел, похваставшись своим новым положением, обмолвившись о нем скромно, как бы между прочим.
— Ты уж не серчай, лапушка, что я тебя тут ожиданием истомил. Сам к тебе рвался, аки кобель на случку, да, вишь, чепи мешали. Делов-то, делов навалилось — страсть господня, а вершить некому. Иное глянь, пустяковина вовсе, ан и с ней народец в Ближнюю думу бежит. Дак подавай им не кого-нибудь, а непременно самого. — Последнее слово он произнес высокопарно и надменно, приосанившись и расправив узенькие плечи.
— Значит, ныне Федор Борисович без тебя никуда, — констатировал я. — Это хорошо.
— Во как! — изумился он. — А я, грешным делом, помыслил, что ты, прознав о том, в печаль придешь, памятая о наших неладах.
— Да какие там нелады, — усмехнулся я, припоминая неудачную попытку «аптекаря» завербовать меня в личные стукачи.
В наблюдательности этому низенькому сухонькому старичку, который вечно сутулился и изображал немощного доходягу, и впрямь равных не имелось. Никто не обратил внимания на наши с государем особые отношения, а Семен Никитич, еще когда Годунов болел и лежал в постели, сразу заприметил, кто часто и подолгу — медики, само собой, не в счет — просиживает подле изголовья царской постели.
Ну а потом, когда Борис Федорович стал уединяться со мной в Думной келье, он пришел к выводу, что пора принять меры.
Дело в том, что, будучи Правым Царским Ухом, он входил в так называемый Ближний совет и уже тогда был как бы не самым основным в его составе. Прочие Годуновы хоть и являлись фигурами «в авторитете», да и приказы возглавляли самые главные — Дворцовый, Конюшенный, но по причине преклонных лет особо не высовывались.
Не до того им.
Зато Семен Никитич Годунов лез повсюду, и государь к его голосу всегда прислушивался, частенько принимая именно те решения, которые выдавал в виде советов «аптекарь».
А с некоторых пор оказалось, что у Годунова завелся еще один советчик, да как бы не самый главный. Непорядок. Надо его либо устранить, либо привлечь на свою сторону.
Предварительную работу, то есть подчеркнутое оказание различных знаков внимания, он прокрутил за две недели, а затем, решив, что достаточно, вышел на меня с откровенным разговором.
Состоялся он осенью, еще до моего отъезда в Углич. Дескать, ныне царь думает сбирать полки, так не мог бы Феликс Константинович замолвить перед государем словечко за князя Андрея Телятевского, дабы исправить явную несправедливость. Мол, с его славным отечеством ему давно пора командовать пускай не большим полком, но уж сторожевым или передовым точно.
— Чай, он род-то свой ведет от самого Рюрика, — журчал боярин. — И равноапостольный князь Володимир Красное Солнышко, и Володимир Мономах, и Всеволод Большое Гнездо — все они его пращуры. Да и опосля праотцы именитейшие. Михаил Святой, что в Твери княжил, мученическую смерть на Орде от басурман приял, Михайло Ляксандрыч ишшо с Димитрием Донским за великое княжение тягался…
Я перебил, не дослушав, иначе список грозил растянуться до бесконечности. Но впрямую не отказывал — зачем мне лишний враг, да еще такой могущественный.
— Ты уж прости, Семен Никитич, но тут у тебя промашка вышла. Пообещать, что словцо за твоего князя замолвлю, могу, но только если о нем зайдет речь, а это навряд ли.
Впрочем, насчет навряд ли я поделикатничал — вообще никогда. Зная, что я в отечествах и родах вовсе ничего не смыслю, царь со мной о таких назначениях никогда не разговаривал.
Потому я и пообещал Семену Никитичу, иначе он бы даже этого от меня не добился.
Но все равно он воспринял эти слова как отказ.
— Не хошь, стало быть, подсобить? — поскучнел «аптекарь».
— Хочу, но не могу, — развел руками я.
— Ишь какой! — возмутился он. — Я-ста, хошь и тяжко, ан хлопочу за тебя, дабы кой-какие твои непотребные делишки наружу не просочились да вонь от них до нашего государя не дошла. Мыслишь, то, что ты о прошлую зиму у Оладьина учинил, забыто? Опять же про ключницу твою по Москве слушок идет скверный… — Многозначительная пауза, и пытливо буравящий меня взгляд — дрогну или как?
Знает, куда целиться, гад. Марья Петровна и впрямь одно из моих наиболее уязвимых мест.
Есть еще одно — мое истинное происхождение, но, скорее всего, у «аптекаря» и мысли не было, что человек может дойти до такой наглости, как самовольное присвоение княжеского титула.
Хотя я не удивился бы, узнав, что боярин на всякий случай послал своего человечка в Италию или Шотландию.
Правда, там ему ловить все равно нечего. Давнее знакомство царя с моим «отцом» плюс мое разительное внешнее сходство с княж-фрязином Константином Юрьевичем — непрошибаемая многометровая броня из стали и бетона. Одолеть ее у Семена Никитича никогда не получится.
Зато травница…
Оно ведь неважно, что это моя ключница. При желании можно подать дело так, что я вроде как и сам не знал, какие подлые замыслы гнездились в ее черной душе, вознамерившейся покуситься на священную особу…