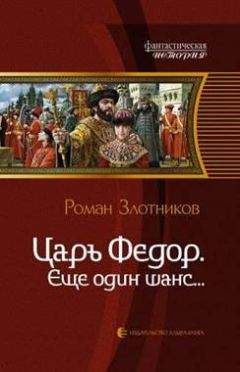Однако в то утро мне зелья не дали. И вообще, похоже, в Кремле намечался какой-то праздник, поскольку еще с вечера из-за двери приглушенно доносились суетливый шум, обычно сопровождающий подготовку к чему-то этакому, и слегка тянуло разными вкусными запахами. Да и Суюмбике, которая, видимо, являлась моей старшей мамкой, также была слегка возбуждена и пребывала в предвкушении. А с утра ударили колокола. Да столько, да так величественно… Я проснулся и лежал, слушая и понимая, откуда пошло выражение «малиновый звон». А как его иначе назвать-то? Не-эт, мы там, в будущем, снобы, думаем, что ухватили себе все самое вкусное и полезное, чего наши дикие и дремучие предки были напрочь лишены. Ну кроме экологии… Но такого у нас нет и быть не может. Этот звон совершенно точно что-то со мной делал — лечил, осветлял, поднимал, избавлял от суетного и сиюминутного. Я лежал и просто глупо улыбался… А потом запел хор. Мужской. Многоголосие доносилось из окна глухо и довольно слабо напоминало те церковные хоры, которые я слышал в своем времени. С точки зрения музыкального звучания оно было куда как беднее, но… И вот из-за этого «но» я выбрался из постели, подошел к окну и выглянул наружу. А потом вдруг моя рука сама собой сложилась в непривычное мне двуперстие и осенила меня крестным знамением. А на глаза сами собой навернулись слезы. И я внезапно понял, что же сегодня за праздник. Пасха!..
Когда в спальню, чуть пригнувшись, вошел отец, я тут же сел на кровати. Вернее не я, а мое тело. Оно само отреагировало таким образом, оставив мне лишь ошеломленно пялиться на высокого статного мужчину с гордым и властным выражением лица. Но едва он шагнул ко мне, как это выражение тут же сползло с лица, уступив место искренней тревоге. Он сделал пару торопливых шагов и склонился надо мной.
— Как ты, сынок?
Тут мое лицо, опять же само по себе, скривилось, и я уткнулся в широкую отцовскую грудь и облегченно заплакал… Черт, я действительно плакал. Не только мое тело, тело десятилетнего пацана, все железы внутренней секреции, гипофиз и эпифиз, а также вся остальная требуха которого работали так, как и положено в десять лет, и на психику которого за последнее время столько навалилось, но и я сам, крутой мачо, брутальный самец, жесткий бизнесмен, прошедший в своей жизни все — и бандитские стрелки, и накаты конкурентов, и наезды чиновников… Может быть, еще и потому, что у меня самого отца не было. Не знаю уж, как оно так повернулось, мать мне рассказывала, что батя был офицер и погиб где-то там, в далеких странах, в тех никем не объявленных и неизвестных большинству людей в мире войнах. Но когда я, став взрослее и заимев связи и возможности, попытался отыскать его следы, мне это так и не удалось. Ну не проходил по учетам Министерства обороны СССР офицер с такими именем и фамилией. Так что, может быть, мама мне просто лгала, чтобы не травмировать душу ребенка своими ошибками молодости либо не желая возводить для ребенка в идеал какого-нибудь обманувшего ее подонка. И вот сейчас я впервые в своей жизни уткнулся в широкую грудь отца…
— Ну будет, будет. — Тяжелая отцовская ладонь, будто шлем, почти полностью накрыла мою головенку и ласково потрепала волосы.— Вижу, дело идет на поправку. Дохтур Миттельних говорил, что велел перестать давать тебе настойку… ну будет, сынок. Перестань. Негоже царевичу слезы лить при людях.
Я послушно шмыгнул носом, беря тело под свой контроль, отчего поток слез сначала заметно уменьшился, а потом и вовсе пересох. Отец удовлетворенно кивнул и, бросив взгляд через плечо на небольшую толпу бояр, заполнившую половину отнюдь не маленькой, метров тридцать, комнаты, спросил, чуть возвысив голос:
— А верно ли мне боярин князь Шуйский докладывал, что ты, сынок, совсем онемел?
Я покосился на бояр, среди которых в первом ряду маячила физиономия козлобородого, и, мысленно злорадно усмехнувшись, ответил:
— Нет, батюшка. Неверно.
Отец довольно ухмыльнулся, а потом повелительно махнул посохом, который держал в другой руке: мол, пошли вон, холопы царские! Бояре тут же суетливо задвигались, затолкались и начали просачиваться через дверь обратно в коридор, что с учетом их непомерных шуб было не очень простой задачей. Отец дождался, пока все выйдут, и снова спросил:
— Ну как ты, сынок?
И я решил рискнуть. В конце концов, от кого еще здесь ждать помощи, как не от собственного отца?
— Плохо, батюшка,— глухо отозвался я, отчего лицо царя сразу же стало испуганным. А я продолжил: — С памятью у меня плохо. Будто отшибло. На людей смотрю и понимаю, что знаемы они мне, а кто и как зовут — не помню. Одежка как прозывается — не помню. Дохтур на языке немецком заговорил — знаю, что ведаю его, даже понимаю чутка, а — не помню.
Отец замер. Некоторое время мы сидели молча, не двигаясь. Я гадал, не испортил ли все этим признанием и не грозит ли мне сейчас быть немедленно упрятанным в какой-нибудь каземат, наподобие пресловутой Железной Маски. Ну кому нужен убогий наследник? Батя же сосредоточенно размышлял. А затем он снова вперил в меня обеспокоенный взгляд и осторожно, с явственно чувствуемым напряжением в голосе спросил:
— И что, ничего вспомнить не получается?
— Да нет, батюшка,— тут же отозвался я,— вспоминается. Но медленно, не сразу. Иногда уж спросить тянет, а я опасаюсь. А ну как посмеются или совсем за убогого примут? Я же никому о сем не говорил. Даже дохтуру. А то опять горькой водой поить начнет, а от нее никакого толку. Только все время спать хочется.
Лицо отца заметно посветлело.
— Вот и ладно, если вспоминается, сынок. Инда ничего, потихоньку все и вспомнишь. А что дохтуру не сказал, тоже ладно. Незачем ему все это знать. А я твоему дядьке Федору обо всем обскажу. Пусть все время рядом будет и тебе потихоньку подсказывает. Пока обратно все не вспомнишь. Окольничий Федор человек верный, зря языком трепать не будет, так что и слухов непотребных о тебе по Москве наново гулять не станет. А то и так уже много чего подлого бают…— Тут батя спохватился и оборвал себя. А затем снова погладил меня по голове, глянул совсем ласково и произнес: — Ты же у меня один сынок, наследник! Тебе государство наше опосля меня в руки брать. И продолжать род царей Годуновых…— После чего потрепал меня по макушке, поднялся и вышел из горницы.
А я ошеломленно рухнул на подушки. Ибическая сила! Да что же это за скотство такое?! Сначала вырвать меня из моей собственной, вполне налаженной и обустроенной жизни, забросить хрен знает в какой век, в совершеннейшую дремучесть и дикость, туда, где нет ничего для цивилизованной жизни — ни туалета, ни электричества, ни нормальной кухни, ни бассейнов, ни яхт, ни зубной пасты, ни… да вообще ничего! Да еще в тело десятилетнего сопляка, от которого просто априори ничего не зависит и зависеть не может. А теперь еще выясняется, что этот десятилетний сопляк — сын того самого горемычного Бориса Годунова…