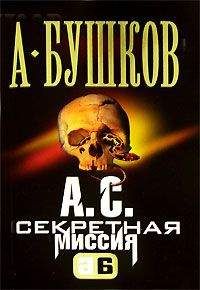И посторонился, плавным жестом предлагая пройти вперед. При этом сабля на его боку колыхнулась так степенно, что не осталось никаких сомнений: она настоящая, тяжелая, боевая. Придется следить, чтобы не получить этой саблей по темечку – в доме, подобном этому, такие предосторожности вовсе не выглядят пустыми страхами… Иные магические предметы, как выяснилось на собственном опыте, способны надежно защитить даже от серьезной нечисти, но падающая на затылок сабля – предмет насквозь материальный, если можно так выразиться, житейский, и от него не спасешься ни молитвами, ни оберегами…
Памятуя свои прошлые приключения в Новороссии, он улучил момент, чтобы посмотреть на провожавшего его по анфиладе великолепно обставленных комнат человека краешком глаза – что порой позволяет увидеть скрытую за маской истинную личину…
Не отшатнулся, ничем не выдал своих чувств. Скорее уж ощутил нечто вроде удовлетворения: ну да, надо было предполагать…
Остались и кафтан, и сабля – но вместо человеческого профиля он увидел нечто, не имеющее с таковым ничего общего: низкий скошенный лоб, вытянутое вперед рыло, полное отсутствие подбородка, красноватый отблеск выпученного глаза, вроде бы белый кривой клык. Не из простых свиней эта свинья, господа мои, стоит остеречься. Зря, пожалуй, оставил дома пистолеты, ну да сделанного не воротишь…
Наглость, конечно, неописуемая: прикинувшиеся людьми непонятные твари средь бела дня, в центре Санкт-Петербурга… а впрочем, как неопровержимо явствует из пережитого недавно, то же самое происходит не в одной европейской столице, притом – которую сотню лет.
На миг в душе ворохнулся гаденький, неправильный, липкий страх: можем ли мы в этих условиях победить? Или, по крайней мере, поставить дело так, чтобы эти создания снова, как обстояло в незапамятные времена, прятались по диким, необитаемым местам? Ногой не ступая в человеческие города? Не обернется ли цивилизация, материализм, вольномыслие против человечества?
Он вздрогнул и пошел дальше, решительно ставя ногу, – нельзя было даже и в мыслях поддаваться слабости, кто знает, как и что они способны чуять. Рассказывал же Мирза Фируз про одного из двенадцати витязей Сулеймана, который в решительный момент на один-единственный миг дрогнул – и поплатился жизнью, несмотря на кольцо…
Анфилада закончилась высокой дубовой дверью, покрытой великолепной резьбой, показавшейся Пушкину совсем непохожей на обычную петербургскую, пусть и искусную работу – было в этих узорах нечто, вовсе не отвратительное, не пугающее, но настолько иное привычному людям искусству… Да и позолоченная ручка казалась сделанной не для человеческой руки, а для чего-то совершенно иного…
«Мадьярец» распахнул дверь, склонился в поклоне – не почтительном лакейском, не учтивом дворянском: низко-низко, на тот манер, что принят был в царствование, скажем, Иоанна Грозного свет Васильевича, коснулся ковра кончиками пальцев. Остались подозрения, что сделано это было исключительно в целях насмешки. Или они настолько уверены в собственных силах, что деликатничать не видят смысла? Не стоит ломать над всем этим голову. Нужно помнить о главном, что рассказал Мирза Фируз: при всех своих сверхъестественных способностях джинны начисто лишены возможности предвидеть будущее, даже самое близкое, в чем, несомненно, кроется их ахиллесова пята…
За дверью, надо же, обнаружилась ничем не выдающаяся гостиная, роскошно обставленная, но смахивавшая на десятки своих товарок в богатых, со вкусом устроенных домах.
– Прошу вас, дражайший Александр Сергеевич, – проговорил «мадьярец» уже с несомненной насмешкой в голосе, видя, что Пушкин задержался на пороге. – Вы у друзей, вам совершенно нечего опасаться, наоборот, окажись я, недостойный, на вашем месте, почитал бы себя счастливцем…
Пушкину пришла в голову неожиданная идея. Запустив руку в жилетный карман, извлек в целях научного эксперимента серебряный рубль и протянул его провожатому, сказав небрежно, тем тоном, каким и обращаются к людям:
– За труды, голубчик…
И ощутил разочарование: «мадьярец» от серебра не шарахнулся, не отдернул лапу. Преспокойно взял серебряный кругляк с двуглавым орлом, подбросил его на ладони и опустил в карман черных панталон, заправленных в высокие сапоги. Сказал почтительнейше:
– Премного благодарны, ваша светлость-с, в кабаке пропьем непременно и нынче же, а как же… Ну как, идете?
И осклабился, в человеческом облике, конечно – но ухмылка все равно была самая гадостная. Пушкин переступил порог, сделал пару шагов по великолепному ковру, покрытому теми же странными узорами, лежащими где-то вдалеке от человеческого искусства…
Яркое солнце ударило ему в лицо, а под ногами вместо ковра оказалась высокая трава неправдоподобной зелени и яркости, будто светящаяся изнутри… Да нет, не под ногами, она достигала щиколоток, а в некоторых местах поднималась еще выше. Вокруг вздымались столь же неправдоподобно зеленые и яркие деревья, ничуть не похожие на все, что ему доводилось видеть в жизни, словно бы и не деревья вовсе, а папоротниковые кусты, только исполинские, вздымавшиеся на невероятную высоту, если сравнивать с домами, то этажей выйдет не менее двадцати, пожалуй что, и крест Исаакия окажется пониже разлапистых вершин…
Солнце стояло слева – явственно отливавшее лазурью, голубизной, казалось больше и ярче обычного, сиявшего над тем миром, где он родился и прожил всю сознательную жизнь. Что-то летучее стремительно проносилось в вышине – ничуть не похожее на птиц, с длинными прозрачными крыльями, вспыхивавшими мириадами радужных вспышек. Пушкин, присмотревшись, стал подозревать в этих существах самых обычных стрекоз – но размеры, размеры! Этакая, не особенно и утруждаясь, слету подхватит и унесет барана…
Он почувствовал влажную, жаркую духоту – и это были не его собственные ощущения, вокруг и в самом деле сгустилась влажная жара, словно в натопленной бане, где уже щедро выплеснуто несколько ковшей кваса на раскаленные камни.
Это был другой мир, совершенно чужой – и даже окружающая тишина казалась не то чтобы зловещей, а иной…
Протяжный звук, нечто среднее меж ревом и мычанием, пронесся справа, заставив вздрогнуть. Исполинские папоротники, росшие не особенно густо, едва заметно покачивали под ветерком изящными листьями, под каждым из которых, пожалуй, мог без тесноты и толкучки разместиться конный эскадрон.
Страха не было – только безмерное удивление перед этим загадочным местом.
Потом впереди, меж двумя изящно-великанскими деревьями показалось что-то белое, стало приближаться.