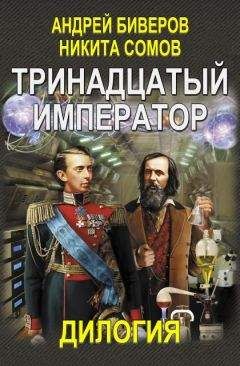«Чудо, чудо!» — билось в голове. Рука сама сложилась щепотью, поднялась вверх и… замерла. Взгляд, обращенный к старой, еще допетровской иконе, уткнулся в двоеперстие, изображенное древним мастером. Что-то внутри ощутимо щелкнуло и… рука вновь пошла вверх, осеняя себя крестом, сложенным уже «о двух перстах».
— Что это? Николай, как это возможно? — затеребила мое плечо Лиза, не отрывая потрясенного взгляда от замироточившей иконы. Путаясь в словах, как мог, я рассказал ей все, что знал об иконах, их просветлении и вообще о религии, к которой я относился лишь как к старому и плохому инструменту в строительстве государства. Пока я знакомил жену со своим весьма скромным багажом церковных знаний, мы не заметили, как карета подъехала к Заячьему острову. Выйдя из кареты, мы с женой поздоровались с встречавшими и направились в собор.
Служба прошла тихо, можно даже сказать, по-домашнему: маленький собор Петропавловской крепости смог вместить только родных и близких. Наверное, так и задумывал построивший его Петр. Горе — это очень личное чувство, его нельзя выставлять на обозрение. Единственное, что смущало меня, — недоуменные взгляды, бросаемые на меня служками и митрополитом: всю церемонию я, а вслед за мной и Лиза крестились двоеперстием. Для стоящего за нашими спинами люда сие действо осталось незамеченным, но вот те, кто стоял рядом, явно обратили на это внимание. И судя по округлившимся глазам свидетелей, слухи о «переменах» вскорости пойдут по столице. Но мне было все равно. Чувство внутренней правильности, посетившее меня при взгляде на икону святой, не оставляло ни на секунду.
Признаться, тогда не понимал, что делаю. Что я, выросший и воспитанный в традициях еще советского церковного нигилизма, знал о взаимоотношениях внутри русского православия? Практически ничего. На слуху были слова «церковь», «староверы», из школьного курса помнилось несколько заученных фраз про никоновкую реформу. Вот, собственно, и все. Слова «единоверие», «поповцы и беспоповцы», «Белокриницкое согласие» ничего мне не говорили. Лишь по прошествии многих лет ко мне пришло понимание, какую лавину я спустил тогда своим маленьким поступком.
Отстояв службу, я подхватил жену под руку, и мы вместе вышли на крыльцо собора. Выйдя наружу, я поразился — площадь переполняло настоящее людское море. Питаемое все прибывающим сквозь ворота крепости людом, оно разрослось так, что казалось бесконечным. Сермяжные армяки и овчины простонародья соседствовали с тяжелыми шубами купцов и аристократов, скромные шинели мещан — с плащами и мундирами дворянства. Гул голосов, витавший над всем этим скоплением народа, стоило нам показаться в дверях церкви, умолк.
Помогая Лизе спуститься по лесенке, я огляделся. Во взглядах, направленных на нас, было столько искреннего сочувствия и разделенного горя, что в глазах снова встали слезы.
— Спаси вас Бог, добрые люди, — прошептали замерзшие губы. — Спаси Бог.
Я в пояс поклонился людям, стоящим на площади. Чуть помедлив, Лиза повторила поклон за мной. Выпрямившись, я отвернулся лицом от собора и, поддерживая за локоть жену, зашагал к карете. В груди рождалось какое-то новое, теплое чувство. Чувство, что ты не один. Что все эти люди, что принесли цветы и свечи к дворцу, кто пришел вместе с нами проститься с нашим малышом и поддержать в трудную минуту — все они тоже моя Семья. (Прим. автора — в 1860-е годы вера в доброго царя у народа была практически непоколебима и не шла ни в какое сравнение с ситуацией в империи на начало XX века).
* * *
Через неделю после поездки в собор у меня состоялся разговор с матерью. Очень многое после той трагедии, что обрушилась на нас, стало видеться по-другому, и это стало поводом для серьезных решений. Мне хотелось отблагодарить тех, кто помог мне в это трудное время. Первыми кандидатами на это, конечно, были близкие. Следующие несколько дней я потратил на написание новой редакции Павловского акта, официально разрешив всем потомкам Романовых вступать в брак вне зависимости от происхождения избранницы или избранника. Попутно были серьезно урезаны права на титулы Великих князей. Если в документе 1797 года титулы Великого князя, Великой княжны и Императорских Высочеств назначались всем императора сыновьям, дочерям, внукам, правнукам и праправнукам, то в новой редакции их могли получить только ближайшие родственники императора: дети, а также братья и сестры. Из внуков же титул получали только старшие сыновья, последующие поколения считались князьями императорской крови.
Таким образом, я хотел не допустить разрастания императорского семейства до неприличных пределов, как это случилось в нашей истории.
При этом правнукам присваивался титул «Высочество», а их потомству — «светлость». Изменялся и размер получаемого денежного содержания. Его пришлось заметно увеличить, дабы не вызвать серьезного негодования родственников. Кроме того, пришлось сделать оговорку, что обратной силы новая редакция не имеет и все титулы, полученные по старому учреждению, остаются неизменны вплоть до смерти лица, ими обладающего.
Мать пришлось уговаривать недолго: она, как любая женщина, желала своим сыновьям только счастья и потому полностью одобрила мое решение. Тот же, кого этот момент касался больше всего, до последнего ни о чем не подозревал.
Как-то вечером, после ужина, мы сидели в гостиной за обеденным столом и беседовали. Закончив дежурные темы о погоде, о родственниках и последних событиях светской жизни, разговор наконец-то добрался до главного.
— Я дам тебе свое благословение, — сказал я.
— Благословение? — переспросил брат, замерев с куском пирога в руке.
— На брак с Марией Мещерской, — пояснил я, помешивая серебряной ложечкой чай, — если ты ее действительно любишь.
Александр на несколько секунд застыл, переваривая услышанное. Я, не торопясь, отхлебнул из чашки душистого чая с бергамотом, терпеливо ожидая реакции.
— Но откуда?.. — наконец выдавил он.
— Ну, я же не дурак и не слепой, — усмехнулся я. — Или ты думаешь, что никто не заметил взглядов, которые вы друг на друга бросаете?
— Глупости, — Сашка покраснел и, отложив пирог, начал вертеть в руках серебряную вилку, — ничего такого не было.
— Ой ли? — приподнял бровь я, делая очередной глоток терпкого дымящегося напитка. — Может, еще скажешь, что наши бравые гвардейцы обознались и это не ты вылезал из ее окна по простыне в позапрошлую среду?
Брат залился пунцовой краской, явно не зная, что сказать. Вилка в его могучих ручищах сама собой свернулась в колечко. Я тоже молчал, глядя на него.