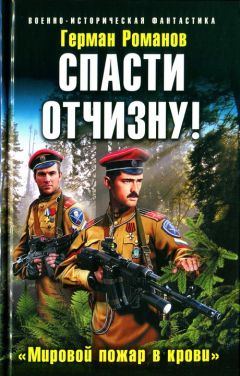Эскулапы в один голос твердили, что сие просто невозможно, с такими повреждениями не живут. А этот смог — как выкарабкался из смертного омута, только на небесах известно. Или в другом месте, противоположном — с мохнатой и суетливой прислугой, что в роли кочегаров там задействована. Но не ему тут судить, у самого грехов не измерить, а Фомин такими муками мог и искупление заслужить. Вот только…
— Память останется, Семен Федотович, никуда не денешь, — прошептал Арчегов, смотря на неудавшегося самоубийцу. Константин не понимал, почему пришел проведать Фомина, но его сюда просто притянуло. Не хотел, но пришел. Зачем, спрашивается?!
Медики повозились у лежанки добрых пять минут, обиходили бывшего генерал-адъютанта и вышли, мельком посмотрев на суровое лицо военного министра, на щеках которого перекатывались желваки. Нет, такую смерть и врагу не пожелаешь, лучше пулю в лоб пустить…
— Любуешься, Костя?
От хриплого голоса Арчегов вздрогнул — зубы обожженного разошлись в подобии улыбки, а глаза горели нечеловеческим огнем. Но не злобным, тут Константин понял сразу. Потому и спросил, смутившись изрядно, слишком неожиданным для него оказалось внезапное пробуждение своего недавнего врага.
— Отнюдь! Размышлял о том, что лучше пулю принять…
— У каждого свой выбор! Свинец был не выходом в моей ситуации, а самым худшим вариантом.
— Это почему же? — Изумление генерала Арчегова от услышанного было искренним. Такого ответа он не ожидал.
— Ты никогда не задумывался над тем, почему самоубийц не отпевают и в освященной земле не хоронят?
— Их души в ад прямиком идут? — Константин высказал первое, что на ум пришло.
— Ага, — хрипло произнес Фомин, соглашаясь. И серьезным голосом добавил: — Тут бы мне и конец полный был. От Мойзеса, что на нитименя, грешного, держит. Вот потому пускать пулю в сердце было нельзя. Слишком многое эта сволочь могла заполучить…
— А огонь что — лучше? — У Константина впервые прорвалось ехидство, неуместное в этой комнате.
— А как ты считаешь? Почему на Западе еретиков на кострах жгли? Да и наша церковь, как мне помнится, тоже к огню в подобных случаях прибегала. А потому, Константин Иванович, что огонь тело еретика сжигает, зато душа, муки адские при жизни перетерпев, шанс попасть на небеса получает, от грехов избавившись. Нет для нее адского пламени…
— Ни хрена себе… — пробормотал под нос Арчегов — рассуждения Фомина показались ему удивительными. А тот, словно не заметив слов собеседника, продолжал говорить, с хрипом выталкивая из горла слова:
— Потому-то я в огонь кинулся, чтоб от Мойзеса избавиться. А он, не к ночи будь упомянут, сразу сообразил…
— Он тебя как-то спас?
Константин Иванович остолбенел от услышанного — в голове просто не укладывалось. Но глазам он привык доверять. Вот он, пример, напротив лежит — выжил ведь, хотя такое просто невозможно. И страшился услышать ответ, сжав свои нервы в кулак. Но все же непроизвольно вздрогнул.
— Да… Спас! Он за себя, падло, старался — я же его по доброй воле хотел за собою утащить. Не вышло… А когда сознание от боли потерял, то он меня вытащил. К жизни вернул…
Фомин замолчал, бессильно откинувшись на подушку и закрыв глаза — долгий разговор его утомил. Константин молча «переваривал» услышанное, находясь в полном смятении.
Его материалистическое насквозь мировоззрение не могло воспринять такого,разум отказывался верить, но, вспомнив взгляд Мойзеса, Арчегов вздрогнул и нахмурился.
— На свете много есть интересного, друг Горацио, — прошептал военный министр и собрался уходить, понимая, что Фомину нужен отдых, а разговор обессилил того изрядно.
— Мы, танкисты, в огне гибнем, а потому грехи свои земные списываем, — в спину глухо ударили тихие слова Фомина. — Прости, что жив остался, это не мой был выбор.
— Да уж, — Константин повернулся, пристально посмотрел на лежащего. Тот взгляда не отвел, усмехнулся через силу:
— Мойзес, наверное, передо мною сейчас писаный красавец? А? Как ты думаешь?
— Это точно, — согласился Арчегов, ничего не приукрашивая. — Но только внешне. У него души нет, ибо совести не имеется. Ты другой…
— Благодарствую на добром слове, — тихо произнес Фомин, и тут его голос словно затвердел: — Как дальше мне жить прикажешь, генерал? Стреляться сам я не буду, а сил новый пожар устроить у меня сейчас нет. Так что тебе это дело на себя брать придется…
— Не торопись. Не придется!
— Почему? Передумал? Вот только я не…
— Ты умер, Семен Федотович, от ран тяжких, что эсеры тебе в мае нанесли. Так и объявлено в газетах. А здесь ты офицер простой, что насмерть в бронепоезде обгорел. Как раз пятого дня взорвался на путях броневагон «Безупречного» — шимоза японская, мать ее! Нестойкая пакость, сам знаешь! Чуть эшелоны не разнесло.
— Ты что творишь…
— Не кипятись, я тут ни при чем. Да и не стал бы такое представление с нашими устраивать ради тебя. — Арчегов говорил зло, вспомнив взрыв на Иннокентьевской — «шпальный» бронепоезд разнесло в клочья да рядом стоящие эшелоны пострадали.
— Прости!
— Бог тебя простит! Потому новую фамилию тебе предстоит выбрать. «Легенду» подобрали — ты немец, воевавший на Восточном фронте, сейчас это легче переносится, и на русскую службу перешедший. Направление на «Блестящий» получишь, командиром. Новенький БМВ, от американцев только полученный. Фамилию и имя сам подберешь, личным кадровиком у тебя буду. И оформлю все документы. На это возможностей у меня хватит.
— Спасибо…
— А я тут ни при чем! Это просьба Мики. Я генерал-адъютанту Фомину гибель Степанова и Михайлова никогда не прощу, хотя понимаю, что вина Шмайсера тут намного больше. Но эту суку я еще достану! Так что, господин капитан Российской армии, оправляйтесь от ран да принимайте матчасть с экипажем. И двигайтесь по железке до славного города Оренбурга. Служить вам России как медному котелку, лишь тогда все прежние грехи отмоете. А в политику больше не лезь, я до сих пор твою кашу расхлебываю!
— А почему именно туда, Константин Иванович?
Тихий голос Фомина дрогнул, и несостоявшийся самоубийца тяжело вздохнул. Последние обвинительные слова явственно хлестнули по его душе всей силою.
Арчегов мстительно усмехнулся, мысленно — совесть гложет, значит, новую жизнь проведет правильнои шанс этот вряд ли упустит. А сам вздохнул с тайным облегчением — добивать он не хотел, хватило урока с монархом. Так что если личные антипатии идут вразрез с государственными интересами, то о них нужно срочно позабыть, еще лучше — напрочь выкинуть из головы.