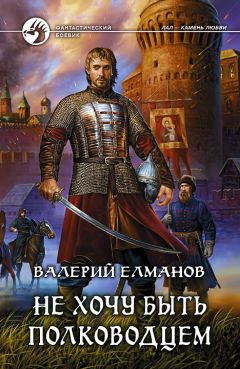— Речист, да на руку нечист. Я о таком и слушать боле не желаю, — заявил Никита Данилович. — Ум есть сладко съесть, да язык короток. — И кивнул кому-то позади меня.
Я и опомниться не успел, как чьи-то здоровенные руки охватили меня, с маху кинули на лавку, отчего я едва не выбил передние зубы, и больно заныли ребра, а меня уже привычно вязали и задирали рубаху на спине. Сверху донесся скучающий голос Никиты Даниловича:
— Ну, я пошел, а вы ему покамест десяток всыпьте.
— Всего-то, — обиженно прогудел Кулема.
— Уж больно веселый он. Вона сколь смеху — ровно на скоморохов нагляделись али калик перехожих наслушались, — пояснил Никита Данилович. — За то ему и скидка. А бить велю Яреме. У него длань полегче, так что понорови татю — с оттяжкой, но исподволь. — И пояснил мне: — Он у меня судить-рядить не умеет, а бить разумеет.
Я прикусил губу и с ненавистью решил, что буду молчать всем гадам назло, как бы больно мне ни пришлось.
«Ничего, десять ударов это еще по-божески, — успокаивал я сам себя. — Зато потом у тебя будет впереди вся ночь, и ты обязательно что-то придумаешь, а завтра убедишь их послать погоню за этим козлом и во всем его уличишь. Не может такого быть, чтоб не уличил. Представь, как послезавтра в это же самое время разложат на лавке его, а не тебя, и всыплют не десяток, а двадцать или тридцать, потому что ты веселый, а он — сволочь. Да и бить его будет не Ярема, у которого рука полегче, а Кулема. Теперь представь все это и терпи».
Ой, мама!
Если у Яремы рука полегче, то Кулему я, наверное, вообще не выдержал бы. После первого удара я еще сумел стойко промолчать, хотя далось мне это нелегко, но после второго, потеряв стойкость, застонал, а затем, позабыв про гордость, про предстоящий послезавтрашний триумф, про то, что здесь растянут остроносого, заорал благим матом, поскольку боль и впрямь была адская. Когда Ярема бил, то я физически ощущал, что этот гад все перепутал и лупцует меня топором, с маху круша мои ребра. Когда же он оттягивал кнут назад, я начинал догадываться, что ошибся и в руках у него не топор, а пила.
Хрясь — вж-ж, хрясь — вж-ж, хрясь — вж-ж…
Что произойдет раньше — разрубит он меня или распилит — я не знал, да оно и не имело значения. Что угодно, лишь бы скорей.
Наконец экзекуция, продолжавшаяся вечность, все-таки закончилась. Я попробовал встать, но тут же вновь повалился на лавку, на этот раз больно стукнувшись носом — отвернуть лицо сил не было.
— А мудер у нас Никита Данилыч, — философски заметил Ярема, стоя надо мной. — Ежели бы ты его драл, так он и вовсе бы сомлел.
— Да, хлипкий нынче тать пошел, — добавил свою долю критики Кулема. — Не то, что ранее. — И со вздохом взвалил меня на плечо.
В эту ночь, пребывая в сарае, я открыл для себя новую истину. Говорят, что существует странная взаимосвязь между нижней частью тела и верхней, потому что когда отец берет ремень и лупцует сына-двоечника, то недоросль, как правило, эти двойки исправляет, то есть его голова начинает гораздо лучше соображать. Так вот я больше чем уверен, что если бы отцом был Ярема и взял в руки кнут, то назавтра двоечник получил бы жирные колы, потому что соображаловка соображать отказалась бы вовсе. Как моя. Про Кулему вообще промолчу — тут сынок и до школы бы не дотянул.
Как ни удивительно, но утром я направился в узилище самостоятельно, на что Ярема сразу отреагировал, хвастливо заявив Кулеме, что это он так меня взбодрил, получив взамен простодушную порцию комплиментов.
— А все почему? — философствовал Ярема. — Потому что я руку слабить умею. Коль повелит Никита Данилыч — в полную силу ожгу, а скажет, яко вечор, чтоб с потачкой, так я слабину даю да в четверть силушки охаживаю.
— Научил бы, — прогудел Кулема.
— Э-э-э нет, брат. Тут дар нужен, — торжественно заявил Ярема, и я понял, что дела мои плохи.
В самом деле, если они по повелению губного старосты займутся мною по-настоящему, да не остановятся на одном десятке, а всыплют два-три и по свежим ранам, я навряд ли выживу. Плюс здесь был только один — до дыбы я не дотяну.
«А ведь как мечталось повисеть», — саркастически вздохнул я.
Но тут дорога закончилась. Прибыли.
Никита Данилович на сей раз был за столом не один. Рядом с ним по-хозяйски устроился подросток лет четырнадцати-пятнадцати и весело болтал ногой, обутой в щегольской красный сапожок.
— Ентот, что ли, тать будет? — осведомился он, придирчиво оглядывая меня.
— Он самый, — вздохнул Никита Данилович.
— У-у рожа, какая, — протянул подросток. — Такую в лесу за елками узришь — заикой остаться можно али обмочиться.
Я оскорбился. Конечно, моя рожа не эталон красоты, да я и сам о ней не такого уж высокого мнения, но и не такая страшная, как заявляет этот плюгавый малолеток. И, прежде чем смотреть на мою, он бы полюбовался на свою прыщавую, увидев которую спросонья гораздо больше шансов остаться заикой. И вообще, кое-кто и без лесных рож совсем недавно мочился в штаны.
Примерно в этом духе я ему и выдал — сказалась скопившаяся злость. Удар, как я узнал уже потом, оказался чертовски болезненным, ибо, сам того не подозревая, я влепил не в бровь, а в глаз — мочиться в порты мальчонка перестал не так давно, всего-то лет пять назад, да и то не окончательно. Нет-нет да и…
— Батюшка-а, — плачущим голосом капризно протянул подросток.
— Кулема, — равнодушно окликнул Никита Данилович. — Давай-ка этого молодца сразу на лавку и два десятка от души, как ты умеешь. — Не знаешь чести, так палок двести.
— Так сколь всыпать-то? — не понял простодушный Кулема. — Двести аль два десятка?
— Для начала два десятка, — махнул рукой Годунов. — Для ума и столько хватит.
Ох, верно говорят: «Чтоб тебя не укрощали, не становись на дыбы». Спрашивается, кто меня тянул за язык хамить этому сопляку?!
— Не-эт!! — истошно завопил я, осознав, хоть и с запозданием, что совершил непростительную ошибку. — Я говорить хочу и все рассказать, а после твоего Кулемы уже не смогу. Кнут-то не убежит, и Кулема тоже, так что погоди малость.
— Кулема, — ласково окликнул Никита Данилович. — Ты и впрямь не убежишь, ежели мы погодим?
Тот задумался. Про кнут он понимал хорошо, но с юмором у детины было не очень.
— А зачем? — недоуменно спросил он.
— Значит, не убежит, — констатировал Никита Данилович. — Ну ежели интересное, то сказывай, Васятка Петров, да гляди, чтоб я не заскучал.
— Вы девочку спросите, — ляпнул я первое, что пришло в голову. — Ирина ведь видела, как я за ней заходил, чтоб спасти.
— Спасти… — задумчиво протянул Никита Данилович. — Об косяк с маху приложить, да так, что у бедняжки все из головы выскочило, — это ты спасти называешь? Ишь ты. Но сказываешь ты хорошо, мне по нраву, — тут же одобрил он, пояснив: — Мне ить самое главное было узнать, кто ж там, наверху, из вас похозяйничал да кто сабелькой вначале братца моего Дмитрия Ивановича срубил, а опосля того за Аксинью Васильевну принялся. — Все больше и больше распаляясь, он от волнения вскочил с места и склонился надо мной: — Или наоборот дело было? Да ты скажи, не таи, — ободрил он, — Ты ж ныне яко в докучной сказке про журавлика: «Нос вытащит — хвост увязит, хвост вытащит — нос увязит». Да и нет теперь уж тебе разницы, кого ты наперед резал, а кого опосля, потому как выдал ты себя ныне. Попался яко птица в кляпцы[8], так чего уж теперича.