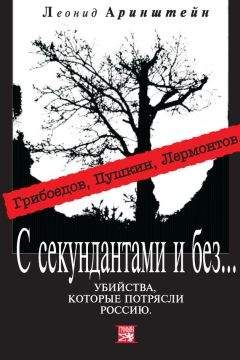Кстати. (Впрочем, кстати ли?) Давеча встретил А. В. (Помнишь ли? Велел тебе кланяться.) Вот поистине счастливый человек. И знаешь ли, почему? Не меняется. Нисколько. Подобно натуре. Вечен и неизменен. Что ему катаклизмы, бури и потрясения? Он живет в ином мире, неизменном и гармоническом. Заешь, никакие иные звуки не касаются его слуха, ибо – Поэт еси. Поэт! А стихов не пишет. Вообще ничего не пишет, но – Поэт. Впрочем, это – так, к слову.
Вспомнил я эту встречу вот почему. Он сказал… За смысл ручаюсь… он сказал: «Все, что происходило, происходит и будет происходить – происходит в тебе и только в тебе».
Вот так, брат…
Иной раз лежу ночью без сна и все думаю, роюсь в памяти: так ли было? не так ли? Было – не было – не будет… Это ли было черным, это ли – белым? Не знаю, не знаю, и – знать не могу. Или не хочу, а ведь это, брат, одно и то же. Желание, хотение – несвершившаяся возможность, возможность же – свершенное хотение. Или свершающееся?
И это незнание иной раз доводит до слез, до боли сердечной. Ужели всякий историк такие муки испытывает?
Так-то вот, роюсь в памяти, гложут меня сомнения, а после – бюро, чернильница, перо, бумага, за окном – свет поднимающегося дня, в дорогу! – и ложатся на бумагу строки, и в строках тех уж нет места сомнениям. Прочь сомнения! Прочь ночные тревоги и страхи! Каждое слово исполнено одного определенного смысла. Прав, оказывается, А. В.! Напишу – и выходит, что было все так, а не иначе. Все происходит во мне и только во мне. И, значит, все было так, как я напишу.
Но означает ли это, что напишу я так, как было?
Знаем ли мы классическую историю такою, какою она в действительности была? Да нет…
Не историю читаем мы, но литературу. Литературу, созданную рукою Тита Ливия, Светония, Тацита.
Что истина?
Кем был Юлий Цезарь? Был ли он убит?
Каков был Нерон?
Вопросы, вопросы…
Ты, я чаю, догадываешься, к чему я клоню все это. Давеча вновь прибыла почта с Севера, с полуночи. И письмо твое, и бандероли с журналами.
Испугался я вдруг. Страшно стало мне ломать печати. Что, если?..
Что, если прочту я, что все было не так? И известия, полученные мною, сотрут мою память, и память моя станет палимпсестом, где прежние письмена едва угадываться будут под новыми? Как тогда? Что тогда?
Страх, страх белый одолевает меня. Страх пришел и заменил собою скуку, прежнее мое чувство. Страх – от старости. Чем больше пишу, тем больше отдаюсь памяти, тем больше старею. И не остановить этого, и не вернуть того…
Альпы, Бородино,
В старом ли, Новом Свете
все остается, но
все достается Лете…
Так, кажется? Кажется, так.
Но – полно! Полно, брат. Разомлел я от собственных тревог, сам видишь. Я уж говорил: сладостное удовольствие нахожу в странности нового чувства. А ведь…
…По Древнему Риму. Однако фантазия моя, сдается мне, стала убогою. Тщился я понять старика, а сам все думал: «Оставь! что мне до твоих восторгов, когда я и собственных не приемлю!» Угостил его стаканчиком бургонского. Он, видать, понял, ушел не поблагодарив. А я еще думал ему мелочь отдать кое-какую. Из карманов. Ан-нет! Ушел гордый потомок римлян, властителей мира.
Ну да Бог с ним, с потомком. Любят меня нищие и душевнобольные, видят каким-то особым зрением, угадывают во мне брата своего. Есть тут один, Гай Юлий Цезарь, он же, дай Бог памяти, Джузеппе (или Джованни? не все ли равно). И поведал он мне, что вовсе не был убит Брутом, ибо как раз на мартовские иды подцепил от девки дурную болезнь (как все-таки верно будет: французская болезнь? или итальянская болезнь?), лежал в горячке, и некий жид лечил его меркурием. Сей потомок Авраама так славно его вылечил, что он жив до сего дня. Хотел я спросить, а жив ли лекарь-иудей? Я бы и сам так не прочь… Когда же я (из чистого любопытства) напомнил знаменитое: «И ты, Брут», а затем битву у Филипп и принципат Августа, храбрейший из римлян презрительно взмахнул рукою и проговорил: «А, все это ваш Шекспир», – припечатал Барда бранным словом и отвернулся, дескать, нечего об этом и толковать более. И тут, представь, обнаружил я в лице его черты, схожие с чертами мраморного бюста Цезаря. Дьявольское наваждение! К счастью, императора кто-то окликнул, он ушел, а я вздохнул с облегчением. Слава Богу, а то я уж начал подозревать, что и сам я – то ли Теренций Плавт, то ли Ювенал, хорошо, коли не Давид-псалмопевец. А вел я все это к тому, что, опиши талантливо событие, никогда в истории не бывшее, и оно возникнет в истории. Вот к чему. Страшно и опасно прикасаться к прошлому, к истории. К забвению.
К зеркалу…
…не менее, как первоначальный слепок моего безумия. Очаровательная мысль, не так ли? Да, брат, вот она, истинная плата за труды. Как там?
И будет ночь, как ночь покоя,
Как перья в ангельском крыле,
Запечатленною строкою
На остывающем челе.
Как там дальше, не помнишь? Когда-то я любил это стихотворение – давным-давно, в юности:
И вы не знаете, что будет,
И вам придет ночная весть…
Дальше не помню. Помню только, что рифма была неудачная: «смесь».
Да, брат, вновь стала многоречивой моя эпистола. А перечитывать и выправлять что-то, что-то вымарывать, вычеркивать – боюсь.
Боюсь, брат…
Стоит мне только перечесть письмо, как тут же отправится оно в печь, в огонь. И не придет к тебе, и не прочтешь ты его никогда, как не довелось тебе прочесть многого из того, что писал я только тебе и для тебя…
Июньская ночь была на переломе. В ночном небе, по едва уловимым признакам, уже предчувствовался рассвет. Ветер, налетавший с вечера резкими порывами, утих, и тишина стала ясной и хрупкой.
Именно прозрачность и хрупкость предутренней тишины, хрупкость, подобная хрупкости стекла, заставили неспящего человека в спящем доме встать от письменного стола и подойти к окну.
Человек этот был невысок ростом, сух фигурою, желт лицом. Звали человека Александр Сергеевич Грибоедов, и его знала вся Россия как автора разошедшейся некогда в списках комедии «Горе от ума». Комедии прочили бессмертие, автору – тоже. Самому ему, впрочем, никакого дела не было ни до похвал, ни до ругани; что же касается бессмертия, то и к сему щекотливому предмету он относился без любопытства. Растасканная на поговорки, словечки, размноженная по всей стране комедия давно уже стала безразлична автору, в глубине души он не считал ее ни своевременной, ни удачной. К тому же прошло невесть сколько времени.
Сжегши с вечера все бумаги, какие смог отыскать в ящиках бюро и старых сундуках, Грибоедов половину этой ночи провел у письменного стола. Он не написал ни единого слова, только сидел над чистым листом, обхватив голову руками. Перед глазами все еще стояла картина того, как огонь в камине медленно поглощает пожелтевшую бумагу, как бумага корчится и чернеет в огне, как сургучи и воск старых печатей разжижаются в кровавые капли и шипя стекают на горящие поленья. По временам ему казалось, что такой финал и есть в высшей степени закономерный и справедливый финал любых писаний, ибо – для чего писать, как не для того, чтобы стала бумага пищею древней всепоглощающей стихии?
Он сжигал старые письма и записи, черновики незаконченного и отвергнутого, полагая, что тем самым очищает свою память от сора, нанесенного за много лет. Прав ли он оказался в этой надежде – пока что и сам не знал. Во всяком случае, в доме не осталось ни единого листа бумаги – за исключением того, что лежал на столе.
Сейчас он стоял у распахнутого окна и чувствовал некое оцепенение. Желтые сухие пальцы вросли в подоконник, желтое лицо – он видел отражение в створке окна – застыло, превратилось в неживую маску, и это ощущение усиливалось металлическим блеском оправы очков. Весь облик его стал хрупким – столь же хрупким, что и ночная прозрачная тишина. Но стоило с улицы донестись какому-то слабому звуку – то ли шагам ночного бродяги, то ли порыву стихшего было ветра, – как оцепенение оставило Грибоедова, руки его расслабились, черты лица смягчились, он словно погрузился на мгновение в прохладную белесую синеву. Непривычная, отрешенно-рассеянная улыбка проявилась на бескровных губах. Он осторожно закрыл окно и повернулся.
Улыбка замерла и исчезла, едва он оторвался от окна, глаза похолодели, взгляд замерз.
Его все чаще раздражала скудная обстановка рабочей комнаты. Грибоедову не раз приходило в голову, что стороннему взгляду эта скудость покажется нарочитой, выставленной напоказ. Собственно, в этом его упрекнули однажды. Странно: он прекрасно помнил упрек и насмешливый голос, бросивший его, а вот кто сказал, кто упрекнул – не помнил. Ни лица, ни имени. Впрочем, не все ли равно?
Он вернулся к столу, отодвинул кресла, сел. Тонкими, чуть подрагивающими пальцами подкрутил фитиль настольной лампы. Свет ее был слишком слаб, его недоставало на освещение всей комнаты, и от стола казалось, что помещение не имеет ни стен, ни углов, что стол и кресла стоят посередине огромного пространства, замкнутого и в то же время беспредельного.