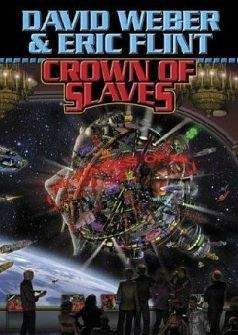Парень неплохо фехтовал, сабля летала в его руках, меняя направление ударов, перетекая из хлестких взмахов в резкие выпады.
Все вокруг исчезло для Трубецкого, ничего вокруг больше не было — только клинок, вылетающий из темноты, и серый силуэт противника на черном фоне леса. Удар-удар-удар-удар-удар… Рука начинала неметь, пальцы, сжимавшие рукоять, теряли чувствительность, запястье на каждое движение отвечало тупой болью — князь, похоже, не был заядлым фехтовальщиком, не особо утруждал себя упражнениями. И теперь… удар — отскок — уход в сторону — удар… и теперь за это придется расплачиваться новому обитателю тела… и… наклон-выпад-уход-наклон… черт-черт-черт… Снова лезвие чужой сабли скользнуло по руке Трубецкого, неглубоко, но ощутимо…
Трубецкой закричал, опускаясь на колено, выругался со стоном и опустил саблю.
Штефан что-то выкрикнул, бросился вперед, замахнулся — он слишком хотел убить своего врага. Слишком хотел, забыл о старом правиле, о том, что тяжелораненого врага добивать не нужно, достаточно выждать, когда тот истечет кровью сам. Ему об этом неоднократно говорил Збышек, и отец многократно повторял, но этот московит, который, возможно, убил брата, подставился под удар, к тому же пуля пробила Штефану левое плечо и срочно нужно было перевязать рану… И московит опустил оружие и склонил голову, словно на плаху… одним ударом все можно закончить… одним ударом…
Штефан ударил. Сверху вниз, заходя чуть справа от коленопреклоненного московита. Отблески света из конюшни освещали открытую беззащитную шею. Удар — но рука вдруг замерла в воздухе, Штефан рванулся, но русский держал крепко, его пальцы сомкнулись на правой руке парня, чуть пониже запястья.
— Нет… — вырвалось у поляка.
И огненный клинок коснулся его правой подмышки, рассек плоть, разрезая мышцы и сухожилия.
Глаза московита перед самым лицом. Огонь, горящий в его зрачках. Его дыхание на лице.
Трубецкой широким движением от левого плеча почти отсек руку поляка, оттолкнул его и ударил по лицу, крест-накрест, толкнул ногой, воткнул саблю в грудь уже падающего, отпустил рукоять и обернулся к ротмистру.
Тот отступал к дому, с трудом отражая удары старика. Гусар уже не ругался, только тяжело дышал. Искры отлетали от клинков сабель, быстро гасли в полете. Чуев пока еще держался, но такой темп долго не выдержать, кто-то из противников скоро не сможет работать в таком темпе и допустит всего одну ошибку…
Трубецкой поднял с земли штуцер, тронул пальцем курок, проверяя, взведен ли, шагнул вперед, приставил ствол к голове поляка и выстрелил так, чтобы случайно не задеть Чуева.
Кремневое оружие очень капризно, после того как Штефан выронил штуцер на землю, тот вполне мог не выстрелить — порох с полки мог осыпаться, мог вылететь кремень из замка, и тогда выстрела бы не получилось… Трубецкой был готов к этому, был готов отскочить в сторону и ударить штуцером как дубиной.
Но штуцер выстрелил.
Грохот, слепящая вспышка, звук падения тела на землю.
— Господа бога… душу… — пробормотал ротмистр, опускаясь на землю. — Совсем меня этот старик… совсем уже почти…
От выстрела волосы на голове мертвого Збышека загорелись, несколько огоньков поползли по прядям, отражаясь в черной крови, вытекающей из проломленного пулей черепа.
Ноги поляка дергались, словно тот пытался ползти к своему врагу, чтобы продолжить схватку, пусть без оружия — вцепиться зубами в глотку. Пальцы разжались и царапали рукоять выпавшей сабли.
Ротмистр лег на спину и тяжело дышал, пытаясь восстановить дыхание. Трубецкой присел рядом, опершись на штуцер.
— Как-то вы… как-то вы, господин ротмистр, не слишком ловкий фехтовальщик…
— Так то ж поляк… Их же… их же с детства… Лучшая конница в мире… раньше была… — Ротмистр сел. — Да и как мы рубимся… Сшиблись, ударили раз-другой, разлетелись… Снова сшиблись… В седле ведь не пофехтуешь… когда в строю… да.
Сзади донесся стон, Трубецкой оглянулся — Штефан пытался встать, перевернулся на живот, подтянул ноги. Обе руки его были ранены, обильно текла кровь, но парень упрямо пытался встать.
— Перевязать мальчишку нужно… — сказал ротмистр. — Истечет кровью…
— Ага, — кивнул Трубецкой. — Я сейчас…
Он встал, уронив штуцер, подошел к раненому, поднял с земли саблю.
— Я сейчас. Помогу…
Замахнулся и быстро ударил саблей поперек шеи. Ударил и протащил клинок, будто мясницкий нож. Толкнул поляка ногой в бок и ударил снова — по горлу. Отрубить голову не получилось.
— Жаль, — сказал Трубецкой.
— Ты что — с ума сошел? — Ротмистр подошел к Трубецкому. — Ополоумел совсем? Он же… Как же это — раненого добивать?
— А он твоих гусар? Как ты говорил, Алексей Платонович? Одному горло перерубил, а второму живот проткнул да кишки на саблю мотал? — Трубецкой прикоснулся острием клинка к животу поляка, словно и сам собирался проделать такое же упражнение с мертвецом.
Чуев ударом ноги отбил саблю в сторону.
— Как там звали твоих гусар? — выпустив рукоять сабли из пальцев, спросил Трубецкой. — Марьев и Соловьев?
— Марьин, — поправил ротмистр.
— Да, Марьин. Их он пожалел, этот мальчик? Он бы тебя пожалел? Или меня? Ты же сам сказал, что они пытать нас хотели… Хотели?
— Пошел ты… — пробормотал ротмистр. — А если хотели, то что? Что из того, теперь ведь… теперь ведь уже не могли они… мальчишка этот не мог…
— Теперь — точно не может. И не сможет в будущем… — Трубецкой усмехнулся, провел рукой по своему плечу и зашипел, зацепив пальцами раны. — Достал он меня… Не сильно, но достал…
— Дай посмотрю. — Ротмистр схватил Трубецкого за руку и потащил к конюшне, на свет. — Нужно промыть и перевязать…
— Да ничего страшного, — сказал князь. — Ерунда.
Потом вдруг подумал, что его противостолбнячные прививки остались в другом теле, в будущем. И там же антибиотики, если в ране начнется заражение. Смешно может получиться, подумал Трубецкой. От малейшего пореза… От простуды… от банального отравления несвежей водой… Был великий преобразователь истории — и нет его. Обидно будет…
— Кстати. — Трубецкой остановился. — Сходи в дом, Алексей Платонович. Посмотри, как там капитан. Я его головой о стену несколько раз приложил: убил, не убил — не знаю. Как бы не очнулся мусью…
— Сейчас, ты вот посиди, а я быстро. — Ротмистр устроил Трубецкого на куче сена в углу конюшни, а сам побежал к дому, взмахнув на бегу саблей.
— Холодно, — сказал Трубецкой вслух. — Я ведь в одном белье…
Левый рукав рубахи был дважды рассечен, кровь пропитала тонкое полотно, стекала по руке и каплями срывалась с кончиков пальцев.