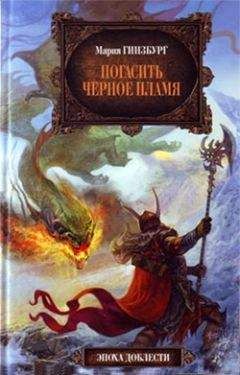— Любезный, — подала голос Немайн, — нельзя ли ограничиться только музыкой? Большинство здесь сидящих люди бывалые, видывали и не такое, так что голоса их сердец споют им куда лучше, чем ты можешь вообразить.
— Короче, — уточнил Кейр, уже традиционно подпирающий камин, напротив сиды, — заткнись, но играй.
Роль переводчика с галантного на доходчивый он исполнял с большим удовольствием. Эту игру придумал Клирик. Ведь нехорошо благородной деве выражаться коротко и грубо. Ну а то, что до многих иначе не доходит, совсем не ее вина.
— Если кто-то считает, что поет лучше меня, я охотно приму вызов! — откликнулся бард. — Эй, девочка! Вставай! Попробуй меня перепеть!
Судя по тембру и тому, что бард на каждой ноте фальшивил на полтона, был или изумительно самонадеян, или имел в запасе пару грязных трюков. Скорее второе. Связываться не хотелось.
— Я приношу извинения, но я устала и не в голосе, — сообщила она, — а потому оставляю тебе долю героя в песнях этого вечера.
— Лень вставать, — перевел Кейр. — Можешь скрипеть дальше. Если совести нет.
У барда совести не было, только заунывные баллады. Тепло и выпитый эль вгоняли в сон, и монотонные речитативы барда вскоре начали скорее убаюкивать, чем раздражать Немайн. Слова проходили краем сознания, и устраивались в памяти — на грядущее. Писаной истории у Камбрии пока не было, и желающий узнать хоть что-то, помимо рассказов стариков, должен был отсеивать крупицы правды из триад, баллад и легенд. Прямо сейчас заниматься этим смысла не было. Оставалось плыть по течению слов, понемногу скатываясь в сон. Между тем бард покончил с древностью и решил спеть о делах более близких.
Три ворона в небе, ночною порой,
Был Морриган голос, как пение стрел:
"Два войска собрались над Юрой-рекой.
Назавтра вступить доведется им в бой.
Какой им положим удел?
Сильна и могуча камбрийская рать,
И воинов ярость крепка.
Коль строй щитоносцев сумеют прорвать,
До вечера саксов колоть им и гнать,
И их не ослабнет рука".
Три ворона. В небе — ни зги, ни звезды,
И Махи пел голос — волынкой навзрыд:
"Для воронов хватит надолго еды,
А крови прольется, что в Юре воды…
Но Камбрия не победит!
Король Кадуаллон умел обещать,
И родом поклялся своим!
Но старых богов не посмел он призвать,
Монахов привел, чтоб молились за рать,
И помощи мы не дадим".
Три ворона встретили алый рассвет,
Был голос Немайн, словно треск топоров:
"Король — обречен, нам он даст свой ответ.
Сегодня прервет вереницу побед,
С невзгодами встретившись вновь!
Сильна и могуча камбрийская рать,
И воинов ярость крепка.
Но алых щитов им ряды не прорвать,
И саксы их будут, тесня, убивать,
И их не ослабнет рука".
Три ворона в небе… За славой в поход
Король Кадуаллон камбрийцев ведет…
Бард после такой песни мог ожидать разного. Осуждения за то, что назвал старыми богами сидов, например. Но скорее — одобрения за оправдание страшного разгрома, случившегося с сильнейшим из королевств Камбрии лет двадцать назад. Предательство богов — достойная причина гибели героев! Но с последним аккордом арфы наступила мертвая тишина. Такая, что бард услышал собственное дыхание. А из-за спинки развернутого к огню кресла раздалось сонное:
— Что-что он там про меня поет? Чем Немайн-то не угодила? В перепевки играть не стала? Раззадорить хочет? Не выйдет. Уважаемые мэтры, простите, охотно посидела бы с вами еще часок-другой. Но, поскольку дурноголосый певец решительно настроен испортить вечер, я смиренно вас покину.
Бард еще успел снова удивиться тому, что какая-то девчонка сидит на стариковском месте у очага. Парня, принятого в круг солидных людей за вежество и интерес к былым походам, он еще себе представить мог. У девочек же обычно есть другие интересы, кроме как упорно затесываться в компанию стариков. А потом перед ним оказалась богиня.
Задрапированная в полосатый плед поверх строгого серого платья, Немайн выглядела весьма величественно. Немудрено: она не накинула плед на плечи, как валлийки, а старательно завернулась, как в паллу — женский вариант тоги. Врач научил, на радостях от обнаруженного Немайн интереса к римской старине — а заодно от подаренных хирургических инструментов. Весьма, по его словам, хороших. Некоторых у него и вовсе не было. А уж если кто-нибудь и разбирался в помпезности, так это римские аристократы. Немайн оказалась между бардом и очагом, так что видел он в основном силуэт. И — уж бард-то, полуязычник по самому роду занятий, это знал — силуэт сиды. Богини, которая назвала свое грозное имя. Сердитой богини. Немайн сделала шаг вперед…
В "Голове грифона" такого не видывали ни до, ни после: на глазах у всех каштановые волосы барда стали седыми.
Несколько мгновений он стоял, как истукан, потом рухнул на колени перед богиней, которая от растерянности дышать забыла и стояла себе столбом, как статуя Немезиды.
— Немайн верх Дон, пощади…
— Живи, — выдавила из легких последний воздух Немайн и быстрым шагом пошла наверх, в свою комнату. Как только она миновала барда, тот потерял сознание. И не слышала, как Кейр радостно возгласил:
— Так что эта самая та самая не та самая, а наша Немайн — самая та!
На что Лорн ап Данхэм, заглянувший в «Голову» послушать баллады и свежие сплетни, задумчиво протянул:
— Ходящие по стране боги — знак перемен. Я-то надеялся на кого-нибудь попроще. Ну могла ведь она оказаться кем-нибудь из младшеньких, могла! Дочерью или сестрой того же Артура, например… Так нет! Кейр, ты все еще рад такому знакомству? Тулла, что с тобой?
Нельзя сказать, что на старшей дочери Дэффида лица не было. Было. Белое, аж зеленое.
— Она… Я… — пробормотала Тулла, — она меня убьет. Я ей на пороге комнаты миску со сливками оставила-а-а…
И заревела.
— Ну оставила, что за беда, — удивленный Кейр взял невесту за дрожащую руку, — сида, конечно, предпочитает пиво…
— Ты не понимаешь! Это я с намеком, чтобы не воображала. Спасительница, видишь ли… Ну и говорили же все… Врач, кузнец… Да и сама… Что ни вещи оборачивать, ни хвори лечить не умеет! Вот я, дура, и поверила — слабая она сида, волшбы не знает. А я, дура, поверила. Вот и думаю, покажу, что толку с нее, как с домового. А теперь она обидится, и меня сживет со свету…
— Если это и правда Немайн, — утешил Лорн, — так просто песенку споет. А если пожалеет город — то зарежет. И голову оставит себе на память…