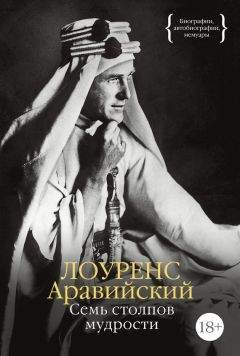— Вы не можете его не помнить! — вскинулся майор. — Это он вас ранил! Он в вас стрелял!
— Темно было, — нагло сказал Глеб.
— Товарищ капитан, — бесконечно терпеливым голосом сказал майор. — Вы же коммунист. И ваши мотивы мне непонятны в этом случае. Мы ведь только хотим установить факты, выяснить правду как есть: вы знаете этого человека?
— Знаю, — сказал Глеб.
— Ну, вот так бы и сразу! Где и при каких обстоятельствах?
— Это полковник Артемий Верещагин. Я его несколько раз видел по телевидению и читал о нем в газетах. Один день мы вместе лежали в Симферопольском военном госпитале… Вернее, в госпитальном отделении Симферопольской военной тюрьмы.
— И что, это все?
— Я имею право хранить молчание.
Советский майор стал цвета бордо. Крымский капитан явно веселился.
— А до этого? Раньше вы что, не виделись?
— Я не помню.
— Вот этого я совсем не понимаю, Глеб, — тихо проговорил Верещагин. — Совсем не понимаю…
— Полковник Верещагин, вы знакомы с капитаном Асмоловским? — повел свою партию крымский военный юрист.
— Да.
— Сколько раз вы встречались?
— Трижды, если считать сегодняшний.
— Расскажите о первой встрече.
Верещагин монотонно и кратко изложил историю появления своей «психкоманды» и пребывания ее на Роман-Кош совместно с ротой капитана Асмоловского.
Выглядел он так, как будто по нему прошлись асфальтовым катком.
— Капитан, как же согласовать это с вашим заявлением? — повернулся к Глебу крымский капитан.
— Как хотите, так и согласовывайте, — глядя в сторону, сказал Глеб.
— Можно, я поговорю с ним? — спросил Верещагин.
— Говорите, — посопев, согласился майор.
— Наедине.
— Зачем это? — забеспокоился советский юрист.
— Давайте выйдем, — крымский капитан встал.
— Объясните мне…
— Уходите отсюда, пожалуйста! — Верещагин поднялся со стула. — Дайте мне объяснить человеку, что к чему. Вам же лучше будет. И скажите, чтобы принесли чаю…
— Зачем, Глеб? — спросил он, когда все вышли.
— Ты на себя в зеркало смотрел?
— Я не брился сегодня.
— Такое впечатление, что и не спал. И не ел. Дня три. Это тебя здесь судят?
— Еще нет. Еще идет предварительное следствие.
— И я, значит, должен показания дать. Против тебя.
— А что тебя смущает? Я твой враг. Я тебя ранил, а мог и убить.
— И что с тобой теперь будет?
— Не знаю… Этот человек, капитан Пепеляев, — мой адвокат. Он клянется, что я отделаюсь выбарабаниванием. Поначалу мне кроили — как это у вас называется? — “вышку”, но Пепеляев не оставил от этих обвинений даже перьев. Он уже не одну задницу спас, так что я ему верю.
Принесли чай. Вернее, по здешнему обыкновению — кипяток и пакетики на веревочках.
— Штука в том, что ты ничего не изменишь. — Верещагин вынул пакетик из чашки, выжал его о ложку и положил на край блюдца. — Ради сохранения хороших отношеий между Москвой и Республикой Крым на кого-то все это нужно свалить. Этот «кто-то» — я. Другую кандидатуру найти трудно, да ее и не ищут особенно.
— И ты согласился?
— Ты понимаешь, Глеб… Я ведь действительно сделал то, в чем меня обвиняют. Отпираться было бы как-то глупо… Да и поздно. С точки зрения Устава я виновен…
— Победителей не судят, — хмыкнул Глеб.
— Как видишь…
— И ты, значит, покорно идешь под расстрел — ради сохранения хороших отношений между Москвой и этой… как ее… Республикой Крым?
— Под какой еще расстрел? Сохранить вам лицо — не значит потерять свое. Приговор уже известен: меня вышибут из армии с позором, предварительно разжаловав. На этом сторговались обвинение и защита.
— Что значит “сторговались”?
— То и значит. Как на базаре. Когда один просит сотню, второй дает двадцатку, в результате сходятся на шестидесяти. Так и здесь.
— Ну так зачем меня-то дергать?
— А ты, Глеб, единственный свидетель с советской стороны.
— Что? — потрясенный Асмоловский подался вперед. — Иди ты! Там же тьма народу была!
— Да? И кто, например?
— Васюк…
— Убит.
— Палишко…
— Убит.
— Стумбиньш…
— Ранен, до сих пор находится в коме.
— Говоров…
— Не нашли.
— Петраков…
— Убит.
— Товарищ майор…
— Занят в проекте “Дон” — считай, умер: новое имя, паспорт гражданина Крыма. Искать не будут, это вопрос принципиальный.
Глеб матюкнулся.
— Солдаты…
— Те, кто общался с нами достаточно плотно, будут молчать. И ты знаешь, почему.
— А, трам-тарарам…
— Согласен. Так вот, вернемся к итогам нашей торговли с обвинением: мы получим приговор по самым низким ставкам, если будем хорошо себя вести. Если процесс пройдет быстро и чисто. Это честная сделка: обвинение не потеет, получая доказательства, но за это не будет рыть нам могилу.
— Этот майор — он от обвинения?
— Товарищ Гудзь? Нет, он просто советский наблюдатель. Прелесть ситуации в том, что крымцы все должны сделать сами. Никакой номинальной власти над обвинением у Гудзя нет. Потому он и дергается: повлиять ни на что не может, а отвечать, в случае чего, будет… Например, если с советской стороны не найдет никаких свидетелей.
— Это он меня откопал?
— Конечно. И возлагает на тебя огромные надежды с тех пор, как узнал, что я тебя ранил. Так что давай, Глеб, показания. Иначе и мне не поможешь, и себе жизнь изгадишь.
— А с чего ты взял, что я хочу тебе помогать? Может быть, я просто не хочу стучать. Не люблю, не умею.
— Но это же не стукачество, товарищ капитан. Ты не доносишь на меня, ты просто помогаешь установить факты.
— Факты… — Глеб сказал, как сплюнул. — Артем, вот если бы меня вешали, а я тебя просил намылить веревку, чтоб я меньше мучился — ты бы это сделал?
— Не так же все погано…
— Откуда я знаю? Ты что, веришь им? Ты их спас, они тебя за это судят — и ты им веришь?
— Я верю Пепеляеву. Он хороший юрист и хороший человек… Слушай, если бы речь шла о жизни и совсем наоборот, я бы отсюда смылся быстро.
— Как? Через подкоп? В бетоне? Или на воздушном шарике?
— Зачем такие сложности… Просто покинул бы ночью город… Хич-хайком — до Ялты или Алушты… А там угнал бы любую парусную яхту — на выбор…
— Так ты что… не в тюрьме?
— Нет, Глеб! Я живу в городе, в гостинице… Кстати, на днях получил третье — и последнее, наверное — полковничье жалование…