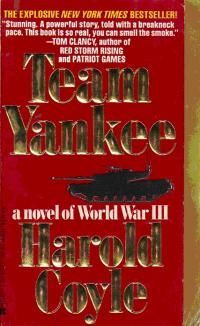- Кило-восемь Майк-семь-семь, это Браво-три Майк-пять-шесть. Очистите эфир. Повторяю, очистите эфир. Конец связи.
Отпустив кнопку, Улецки медленно опустил руки на колени. Он продолжал смотреть на молчащую рацию, словно был готов наброситься на нее, если она осмелиться издать хоть еще один звук. Однако обошлось.
Первая попытка Бэннона заговорить сорвалась из-за пересохших рта и горла. На второй раз, промочив рот слюной, он оказался более успешен:
- Опять третий взвод?
Продолжая с тем же выражением таращиться на рацию, Улецки ответил кратко и четко:
- Да, сэр.
- Который час?
Улецки поднял левую руку, столь же медленно и механически, как и при ответе по рации. Посмотрев на часы, он на мгновение задумался, а затем столь же кратко и монотонно ответил:
- Два тридцать четыре ночи.
Не то, чтобы лейтенант Улецки был бесчувственным роботом. Напротив, «Лыжа» или, как его называли солдаты, «лейтенант У» был представительным мужчиной с хорошим чувством юмора, острым умом, а также бесконечной способностью выслушивать анекдоты о поляках[3] и немедленно контратаковать острослова анекдотами о представителях его национальности. Просто на исходе ночи любой придет в зомбиобразное состояние. Необходимость часами сидеть на жестком сидении в маленькой холодной бронированной алюминиевой коробке под названием БТР в компании двух спящих тел, и ничего не делать, кроме как пристально следить за рацией, хотите вы того или нет, не могла дать ничего, кроме усталости. Улецки не повезло. В отличие от Бэннона.
Бэннон на мгновение задумался, пытаясь переварить сказанное старшим помощником. В БТР было тихо. Улецки вернулся к своей рации. Его сознание медленно оживало, и он начинал понимать, что сидеть, глядя, как Улецки возится с рацией, совершенно необязательно. Однако мышцы слишком болели, чтобы уснуть, и единственным способом унять боль было движение. Пришло время сделать огромное усилие и встать. Кроме того, через час было построение личного состава группы, и нужно было время, чтобы привести себя в порядок. Другие могли позволить себе выглядеть так, словно только что встали с кроватей, но командир группы должен производить впечатление бодрости и готовности справиться со всем миром. Ночь, если можно было так назвать четыре часа сна на куче разного барахла, заканчивалась. Пришло время встретить новый день, новый рассвет - уже четвертый с тех пор, как группа «Янки» вышла из расположения и направилась к границе.
* * *
Задолго до того, как танки вышли из ворот гарнизона и направились к границе, Пэт Бэннон поняла, что Шон отправляется на нечто большее, чем просто учения. После восьми лет брака и армейской жизни она научилась читать настроение мужа, словно книгу. Поначалу, различий было мало.
Гибель нефтеналивных танкеров среди постоянной войны в Персидском заливе была не более чем еще одной новостью, переданной по «Armed Forces Network». Жизнь, как и приходы и уходы Шона на службу продолжалась по-прежнему. После блокады Ормузского пролива и направления в зону конфликта американской авианосной ударной группы начались изменения. Мужья стали задерживаться на службе больше обычного. Вместо обычных двенадцати, командиры и штабные офицеры проводили в своих подразделениях по четырнадцать-пятнадцать. Они отмахивались, списывая это на подготовку к предстоящим учениям. Но их женам, как уже «отслужившим» некоторое время было очевидно, что новое положение не было нормой.
Некоторые расстраивались и нервничали. Они не знали, что происходит, но чувствовали, что это что-то плохое. Другие не могли говорить ни о чем другом, кроме как пытаться выяснить, что же это за военная тайна. Днем «сарафанное радио» пыталось обобщить информацию, которую удавалось выудить из своих мужчин прошлой ночью. Пэт решила последовать примеру старших женщин. Кэти Хилл, жена командира 1-го батальона 4-й бронетанкого полка, нашла свой путь - жить, как будто ничего не происходило. Так же поступила Мэри Шелл, жена батальонного S3. Пэт и другие женщины последовали их примеру, вместо того, чтобы задаваться вопросами или жаловаться. Они понимали, что чтобы не происходило, нытьем они никак не повлияют на это.
Затем сообщение о том, что Советы направили военно-морскую эскадру в Персидский залив, чтобы «помочь в поддержании мира», разрушило последнюю иллюзию нормальной жизни. Когда Пэт сказала об этом Шону, вернувшемуся домой с утренней физзарядки, он ответил просто «да, я знаю». По его реакции, Пэт поняла, что он знал намного больше. Страх и предчувствия усилились, когда она рассказала о его словах другим. Учения, к которым в батальоне готовились уже несколько месяцев, были внезапно отменены. В течение двух с половиной лет, что они жили в Германии, такого не случалось никогда. Что было еще хуже, отмена учений никак не сказалась на том, что офицеры проводили в подразделениях по четырнадцать часов.
Ухудшавшаяся с каждым следующим днем обстановка в мире сопровождалась дальнейшими мерами в их батальоне. Однажды вечером, Шон принес домой свою полевую экипировку, достал старый камуфляж и положил на его место более новый. На следующий день, возвращаясь из военного магазина, Пэт заметила грузовики с предупреждающими знаками «в кузове боеприпасы» на капотах, из которых к танкам перетаскивали какие-то ящики. Даже среди иждивенцев началась подготовка. Сообщение о том, что советский и американский корабли столкнулись в Персидском заливе, а затем вступили в бой, заставило замолчать последний голос оптимизма.
Пэт была к такому не готова. Она вдруг поняла, что ее муж вполне мог собираться на войну.
Возможность этого была всегда. В конце концов, Шон был военным, а задачей военных было воевать. Как сказал бы Шон, это то, за что я получаю зарплату. Пэт понимала, что такое когда-то могло произойти, но никогда не думала, что это случиться на самом деле. Теперь время пришло. Это было похоже на громадную темную бездну. У нее не было никаких знаний, она понятия не имела, что ей делать. Армия потратила много средств на подготовку и обучение Шона, но не потратила ни цента на то, чтобы подготовить ее, жену офицера. Пэт решали, что единственным, что она могла сделать, было сделать это время максимально удобным и простым для Шона, насколько это было возможно.
Но кроме Шона, были дети. Их сын, также Шон, как старший, уже понимал, что что-то было не в порядке. Для шестилетнего ребенка он был очень проницательным и видел обеспокоенность и страх, которые его отец и мать всеми силами пытались скрыть. Он не говорил об это, но его тревогу можно было понять по тому, как он каждое утро спрашивал у отца, вернется ли тот домой.