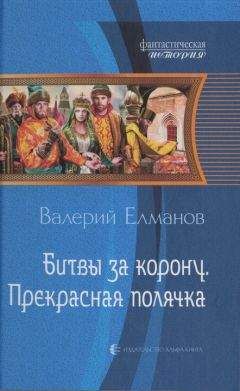Ознакомительная версия.
Идиот! Неужто решил, что я хоть на миг поверю его вранью?! Так она и созналась при живом-то Дмитрии. Чичас, разбежалась! Иное дело, если бы она увидела его мертвым. Тогда все возможно. Но пока государь жив…
— Ты о том больше никому не заикайся, — почти ласково посоветовал я. — А Ивану передай, чтоб он свою басню засунул себе…
Шуйский, выпучив глаза, выслушал мои рекомендации о том, куда именно засунуть, и, смущенно заерзав на лавочке, принялся вновь вытирать платком лицо. Я не торопил. Время работало на меня, спешить ни к чему.
— А с людишками твоими как решим? — вспомнил он про свой последний козырь. — Ты ж вроде завсегда о своих холопах заботился. Может, учиним мену? Их, конечно, с государем не сравнить, но зато не один — пятеро.
Я невольно усмехнулся. То ли у человека от страха крыша поехала, то ли он, подобно утопающему, за соломинку хватается. Моей иронической улыбки ему хватило, чтоб понять — и тут не срослось.
— Ну да, ну да, — закивал он своей плешивой головенкой и предложил новый вариант: — А ежели я всех пятерых в обмен за свою голову предложу?
Я почесал в затылке. Звучит заманчиво, но чем дольше прикидывал, тем больше приходил к выводу: овчинка выделки не стоит. Эта бестия в будущем может учинить столько пакостей, что в результате погибнет не пятеро гвардейцев, а вдесятеро больше, если не в сто. Но отказал не сразу, а, оттягивая время, поведал притчу про Сталина и его сына, заменив фельдмаршалов на воевод, которых на простых ратников не меняют.
— И не жалко? Ведь смертушке лютой твоих ратников предадут, коль не сговоримся. А я б их отстоял.
— Они — воины. Должны понимать. Да и воины не из лучших, коль угодили в плен, — попытался я слегка принизить их цену, но Шуйский не позволил.
— Какое там не из лучших? — горячо возразил он. — Мы-ста дюжину людишек положили, прежде чем их пояли. Да полдесятка с такими ранами лежат — до утра навряд ли протянут. Ты б не спешил в отказ идти, подумал.
— Лучше ты призадумайся, прежде чем начать их мучить, — посоветовал я и возвысил голос. — Видит бог и все святые, кои на меня со стен храма глядят, что за каждого из пятерых я со всех вас по пять шкур и спущу. — И в подтверждение своих слов я встал с лавки, перекрестившись на икону с изображением волхвов, пришедших поклониться Христу. — Ну и за погибших, само собой, — добавил я, усаживаясь обратно. — Это еще пять шкур получается. Итого — десять.
— Семь, — мрачно поправил меня боярин. — Один-то не в счет — я его тебе выдал, хошь и с ранами. А двое в Чудовом монастыре остались валяться. Стало быть, ежели вместе со схваченными, семь.
Я кивнул, принимая поправку и внутренне возликовав. Выходит, двое уцелели и не попались. Не факт, что они прорвались к воротам, добрались до стрельцов, но надежда остается. Отлично! Тогда вдвойне есть смысл потянуть время.
— Пускай семь. Но это с остальных бояр. А с тебя, Василий Иванович, причитается побольше.
— За что ж мне такие леготы? — криво ухмыльнулся он, пытаясь хорохориться.
— За Кострому должок остался, — напомнил я. — Да и подворье ты мое спалил, а там много добра погибло. Потому тебя особо предупреждаю. В Константино-Еленинской башне такие умельцы, что поискать, а если попросить их как следует, то и вовсе расстараются, с душой к своему черному делу подойдут, и ты у меня, Василий Иванович, о смерти сам молить станешь, но она к тебе ох как не скоро придет. Словом, призадумайся. К человеколюбию твоему не взываю — глупо, но ради своей собственной шкуры, которую эти умельцы ломтями с тебя, живого, настругают, ты моих гвардейцев побереги, пока до меня не доберешься. Тогда и я тебя быстро казню, терзать не стану. Ответ же тебе прежний — не только государей, но и бояр на рядовичей не меняю.
— А вот ты тута про подворье свое сказывал, — решил он зайти с другой стороны. — Есть грех. Но я его и искупить могу. Чай, я не государь, и мошна у меня не пустая. Немалую деньгу дам. На три новых терема хватит.
— А ты не забыл, что твои вотчины и все прочее добро без того к государю перейдет?
— Не все, — не согласился Шуйский. — Далеко не все. Вотчины — да, их не скроешь, а серебрецо… Оно у меня в надежных местах, а я про них, поверь, как бы ни терзали, молчать стану. Хоть в ентом верх возьму. Да и перейдет взятое не к тебе — в казну. А прошу о малом — словцо свое перед государем замолвить в мою заступу. Неужто одно словцо десяти тыщ не стоит?
— Не слишком ли дешево ты себя оценил? — усмехнулся я.
— Ну тогда… — Он воровато оглянулся на гвардейцев и пальцем вывел на лавке букву «В», заключив ее в круг.[12]
Я усмехнулся, покачал головой и вывел на своей лавке букву «Е». Боярин с минуту угрюмо разглядывал ее и, решившись, обреченно махнул рукой.
— Без ножа режешь, князь, — пожаловался он, — но ныне твоя воля. Грамотку хоть сейчас отпишу, чтоб не сумлевался, а само серебрецо…
— Ты не понял, — перебил я, вновь вывел пальцем ту же букву и принялся обстукивать ее, изображая круг из точек.
Лицо Василия Ивановича надо было видеть. Из красного оно мгновенно стало белым, а глаза чуть не вылезли из орбит. Он растерянно уставился на меня:
— Где ж я тебе их возьму?
Я пожал плечами, давая понять, что этот вопрос занимает меня меньше всего.
— Да у меня отродясь и одного легиона не бывало. Их токмо государь у себя в казне мог отыскать, да и то не нынешний. Помилосердствуй, Федор Константиныч!
Я прикинул. Кажется, и впрямь не врет. Ладно, можно и помилосердствовать. После недолгого раздумья я нарисовал «Д», но едва принялся обстукивать ее, как Шуйский замотал головой, выпалив:
— И стока у меня нет. Не губи, князь.
Дальнейшие полчаса прошли у нас в отчаянной торговле. Подробности пересказывать не стану, но зрелище было весьма любопытное. В азарте Шуйский подчас забывал, где он и что стоит на кону. Несколько раз он даже соскакивал с лавки и, в точности как покупатель на ярмарке, порывался уйти от несговорчивого продавца. Лишь в самый последний момент, напоровшись на суровые взгляды насупленных гвардейцев, он приходил в себя, вспоминал, где находится, и вновь усаживался на место.
Наконец я сжалился и, видя, что боярин упорно стоит на своем, а значит, скорее всего, действительно не имеет в наличии четырехсот тысяч, поменял буковку на «Г». Обстукивать не стал — и без того понятно, о какой сумме речь, и напомнил про указ Дмитрия о судьях, к которым в качестве верховных государь причислил троих: меня, Басманова и царевича. Петр Федорович судить не сможет, стало быть, остаются двое. И тут разницы нет, кто именно из нас станет вершить его судьбу.
Ознакомительная версия.