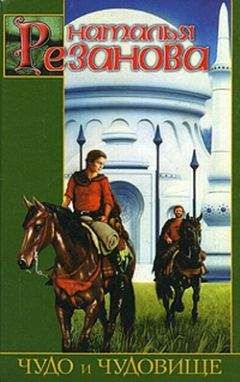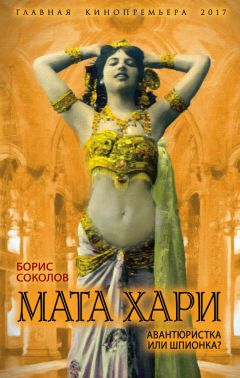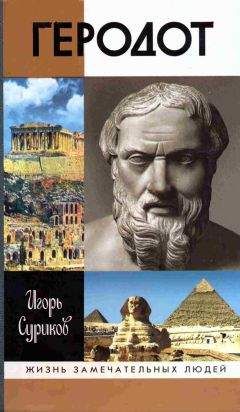Ознакомительная версия.
Ильгок отвернулся. Что он увидел в ней? Воплощение всего, что отталкивало его в этой стране – надменности, практицизма, невероятного упорства? Крушение главного принципа, на котором строилось его учение – незыблемости отношений мастера и ученика, при которой не то, что о бунте – о споре помыслить невозможно? Он был убежден, что уничтожил гордость Дарды, а на деле эта гордость ничуть не уменьшилась. Он только не замечал ее. Ильгок привык читать души своих учеников, как раскрытую книгу, и вдруг оказалось, что книга написана на незнакомом ему языке.
Или ему неприятно было смотреть на несчастную уродину, посягающую на то, что ей не положено?
Что бы он сейчас ни испытывал, это сталось невысказанным. Высказалась Дарда.
– Если тебе сейчас не до меня, я подожду. Я буду ждать, сколько нужно. Но не отступлю.
С этими словами она свернула за камень и скрылась из виду. Ильгок не окликнул ее, и она не оглядывалась.
Ей не было стыдно, потому что ее не учили стыдиться. Очевидно, люди полагали, будто из-за своей внешности она и так беспрерывно терзалась стыдом. Они ошибались. И сомнения ее не мучали. Когда Дарда принимала решение, сомнения исчезали.
И выбрав себе цель, она упорно шла к ней, всегда добиваясь своего. Даже, если ей этого не хотелось.
Должно быть, Ильгок тоже это понял.
Дарда спала спокойно и без сновидений. А когда поутру вернулась на ту самую поляну, нашла Ильгока мертвым. Он воткнул себе в сердце кинжал. Вероятно, он сделал это еще вечером, вскоре после ее ухода, потому что тело его успело остыть. И рука его не дрожала, потому что крови из раны почти не вытекло.
Дарда не сразу осознала, что она видит. А когда поняла, ноги у нее подкосились. Она упала на колени, и на коленях же поползла к Ильгоку, уставившись на кинжал. Он не был погружен в грудь до упора – мешали загнутые крючьями края рукояти. Но и этого хватило. Дарда с усилием вырвала кинжал из раны, хотя это ничем не помогло бы Ильгоку, и сразу же выронила оружие. Дрожь прошла по ее телу, руки дергались так, что она и тростинки не удержала бы. Перед глазами все расплывалось, точно видимый мир был картиной, на которую плеснули мутной теплой водой, и краски поплыли, смешались… Вода была на самом деле – на лице Дарды. Она плакала еще реже, чем смеялась, и успела забыть, что это слезы.
Ей было еще хуже, чем в день, когда ее выгнали из дома. Тогда она чувствовала себя правой, в чем бы ее ни обвиняли. Теперь обвинить ее было некому, но она знала, что виновна, и вина ее была безмерна. Она довела до смерти единственного человека, который взял на себя труд чему-то ее учить. Который был к ней добрее, чем родной отец. С тем же успехом она могла бы самолично вонзить кинжал Ильгоку в сердце. Убийство, совершенное ею на берегу Зифы, нисколько не затронуло в ней совести . Сейчас Дарда сполна ощутила, что значит быть убийцей. И никто не мог избавить ее от этого. Свою вину ей надлежало избывать в одиночестве.
Со временем, значительно позже, она вынесла из того, что случилось, еще один урок: она, Дарда, внушает мужчинам сильнейшее отвращение. Ей следует усвоить это, и не пытаться уподобиться другим женщинам.
Но в тот день подобное соображение не пришло ей в голову. И, сколь ни мучила ее вина, она, как и после изгнания из дома, не подумала о том, чтобы убить себя. Она взяла в руки нож – на сей раз собственный, бронзовый, лишь для того, чтобы вырыть могилу.
Дарда копала ее целый день. Нож совсем затупился, ладони стерлись до крови. Но по крайней мере, хоть тут она добилась, чего хотела. До захода солнца вырыла яму, достаточную для того, чтобы уложить в нее умершего. Она спешила, словно надеялась, что ей полегчает, если она не будет видеть итог своего преступления.
Посох и кинжал Ильгока она уложила вместе с ним. Не в качестве посмертных даров. Она не хотела ничего оставлять у себя на память об Ильгоке. Память и без того была слишком болезненна.
Но после того, как Дарда засыпала могилу, легче ей не стало. Спасло ее то, что она слишком устала душой и телом. Темное, тупое забытье одолело ее. И это был единственный раз, когда ей пришлось спать рядом с Ильгоком.
Так завершился день, ужасней которого для нее еще не было. Но ни тогда, по малолетству и отсутствию опыта, ни позже, Дарда не умела понять: не столько она не была женщиной, сколько Ильгок уже не был мужчиной. И осознание этого могло оказаться столь мучительным, что заставило его лишить себя жизни.
Проснулась она в слезах. Но даже если б она не плакала, окружающая красота померкла. Она была насквозь лжива. эта красота. И Дарда ни за что не осталась бы здесь. В горах, среди скал и снега, в безводной пустыне ей будет лучше, чем в этой ловушке. Никогда больше она не позволит себе поддаться обману красоты.
Дарда вернулась в пустыню еще беднее, чем была. Ступившийся нож пришел в негодность, и она его выбросила. И она не стала загружать сумку камнями для пращи. Из оружия у нее остался только посох. Овчина, служившая ей накидкой и одеялом, почти полностью облысела, и выглядела не лучше платья. Единственное, что осталось в целости – обмотки на ноги, поскольку предшествующие месяцы Дарда ходила босиком.
Наверху было не такое пекло, как помнила Дарда. Здесь время шло, а не стояло, и сезоны менялись ощутимо. Но все равно, жара стояла отчаянная. И солнце слепило немилосердно. От жары, напекавшей голову, от солнца или от рыданий Дарда плохо осознавала, что происходит, и впоследствии не могла бы сказать, долго ли она добиралась до дороги, и встречался ли кто ей по пути. Последнее было возможно, но если кто-то и замечал ее, то вероятно приходил к выводу, что такое убогое существо не стоит ни ограбления, ни угона в рабство.
Однако на дорогу она вышла. Произошло это вероятно, на второй день. Вернее, вышла Дарда на тропу, которая в свою очередь привела ее к дороге на Кааф. Но если Дарда и определяла направление, то не глазами. Она шла, отстранившись от всего, что могло отвлечь ее от горя и терзаний, и потому не заметила, как вышла на дорогу и не услышала стука копыт.
Одинокие путники попадались на этой дороге не то, чтоб часто, но не так уж редко, как можно представить. Они осмеливались пуститься в путь, если, как уже было помянуто, с них нечего было взять. Одинокий всадник – другое дело. Даже если он стар, подслеповат и хром на обе ноги, у него всегда можно отобрать коня или осла, или мула. Поэтому если по дороге на Кааф кто-то ехал в одиночку, то это был либо разбойник, либо человек, по каким-то причинам отставший от каравана, вместе с которым путешествовал.
Человека, поспешавшего в сторону Каафа на высоком, тонконогом жеребце золотистой масти, с первого взгляда можно было принять за разбойника. Он был одет на дебенский манер – в широкий кафтан, перехваченный наборным поясом, шаровары и мягкие сапоги, на боку у него висел меч хатральской работы, судя по изогнутому клинку и бирюзе, украшавшей рукоятку. А большинство разбойников в этом краю являлось через границы между Хатралем и Дебеном. Но человек опытный, много странствовавший сразу бы сказал, что никакой это не разбойник, а также и не уроженец какого-либо из юго-восточных княжеств. В такие кафтаны одевались в Дебене состоятельные горожане, и они же, как этот всадник, обычно брили бороды, и тщательно закручивали пышные усы. Люди пустыни, напротив, считали бороду истинным украшением мужчины, а из одежды предпочитали широкие плащи, длинные и плотные, надеваемые поверх рубах, головы же прикрывали платками или просто обвязывали тканью. Но ни горожане, ни кочевники юга не надели бы расшитую шамгарийскую шапку с отворотами. Зато щеголи южных торговых городов Нира, особенно Каафа, запросто сочетали в своей одежде самые несочетаемые детали: это вовсе не считалось смешным или вызывающим. Вообще во всем его облике – не только в одежде, но и в манере держаться в седле, в том, как он нахлестывал коня – заметна была некая лихорадочная франтоватость, совершенно несвойственная тем, кто промысел свой осуществлял мечом и луком. Да и по правде, рыхловат он был для такого промысла.
Итак, он спешил, проклиная то – или тех, кто задержал его на караванной стоянке, а Дарда его не услышала. Что вполне объяснимо – по песку, даже плотно утоптанному, всадника, если не быть начеку, можно и не услышать. Но для всадника это не было оправданием: оборванка, возникшая на перекрестке дорог, нагло шла себе, и не желала убираться с его дороги. Что ж, пусть пеняет на себя. Уж он-то объезжать ее не собирается. Он бы непременно сбил ее, если б Дарда, все еще пребывая в отстранении, не ощутила бы: что-то не так. И бессознательно отступила на шаг в сторону. И перехватила посох за середину, чтоб легче было защищаться. И всадник промчался бы мимо, если б коня не испугала мелькнувшая рядом с его мордой палка. Кровные кони бывают пугливей полевых мышей и капризней избалованных красавиц. Он заржал, поднялся на дыбы, и всаднику стоило больших усилий удержаться в седле. Он кричал, бил коня плеткой и вжимал колени ему в бока, а золотистый жеребец плясал на задних ногах. Когда же он, наконец, смирился, в бешенство впал его хозяин. Вместо того, чтобы показать этому отребью свою силу, он сам оказался в дурацком положении. Наглость нищенки не имела предела. Вдобавок, укрощая коня, он оказался несколько впереди Дарды, и увидел ее лицо. Это решило дело. Самим своим существованием жалкая уродина оскорбляла его – красивого, нарядного и сильного. И за это ее следовало наказать. Он развернул коня. Если раньше он мог сбить нищенку походя, как бы случайно, то теперь он готов был убить, затоптать конем, не марая благородных рук.
Ознакомительная версия.