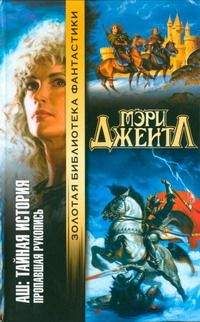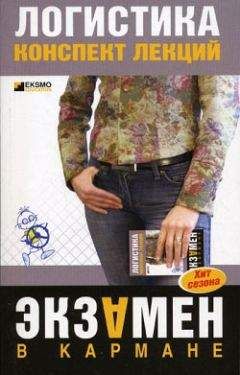Годфри посторонился, пропуская пажа Филиберта. Аш натянула рубаху, присела на деревянный сундук и влезла в штаны и камзол, заранее скрепленные шнуровкой. И штаны, и камзол были из зеленой шерсти: камзол чуть светлее штанов, а шнуровка — с серебряными кисточками. Она подставила мальчугану руки, чтобы он натянул рукава и закрепил их на плечах такими же шнурками.
— Иди посмотри футбол, Фили. Позовешь меня, когда они закончат, — Аш взъерошила ему волосы. Когда паж выбежал из палатки, она добавила, стягивая шнуровку на груди своего лучшего камзола с рукавами-пуфами: — Ну, Годфри, так в чем же дело? Да, я помню, что где-то его видела. Так откуда ты его знаешь?
Годфри Максимиллиан отвернулся, чтобы не встретиться с ней взглядом:
— Он… был победителем прошлогоднего большого турнира в Кельне. Помнишь, детка? Он выбил из седла пятнадцать рыцарей; в пешей схватке не участвовал. Император пожаловал ему гнедого жеребца. Я… узнал его цвета и вспомнил имя.
Аш за плечо повернула священника к себе лицом и раздельно проговорила:
— Да. И так далее. Что в этом особенного, Годфри? Где я встречалась с Фернандо?
— Семь лет назад, — Годфри перевел дыхание. — В Генуе.
У Аш что-то перевернулось в животе. «Так вот откуда эта лихорадочная веселость последних дней! Со мной всегда так, когда я что-то скрываю от самой себя. Только я сама не всегда об этом знаю.
И именно поэтому я забросила отряд, позволила увезти себя в Кельн… Не капитан, а тощая задница!»
Воспоминания, давно изжеванные досуха, возвращались обрывками, как всегда возвращается память. Морская вода плещется у каменных ступеней дока. Свет фонаря на мокрой гальке. Мальчишеское плечо, блеснувшее в луче. Как она потом бежала назад, в лагерь… лагерь ее прежнего отряда, под знаменем Золотого Грифона… задыхаясь, от стыда не смея дать волю ярости.
— Вот что? Так. — Аш сама чувствовала, что голос выдает ее. Она отвернулась, выглянула из палатки. — Так это был дель Гиз? С тех пор прошло много времени.
— Я тогда приложил немало стараний, чтобы узнать его имя.
— Вот как? — у нее от ненависти пересохло в горле. — Похоже на тебя, Годфри. Даже в те времена…
Краем глаза она увидела, что Флориан де Ласи — теперь Флориан дель Гиз, возможно, ее будущий деверь… как странно — встал. Знакомым жестом отбросил со лба грязную челку:
— В чем дело, девочка?
— Я тебе не рассказывала? Это было до того, как ты вступил в отряд. Я думала, может, как-нибудь спьяну я тебе рассказала.
В ответ на ее вопросительный взгляд Флориан мотнул головой.
Аш слезла с сундука и прошла к выходу из палатки. Мокрая парусина уже просыхала под вечерним солнцем. Она рукой попробовала натяжение растяжек. В хозяйстве квартирмейстера Генри Бранта замычала корова. Ветер принес запах свежего навоза. Шатры, палатки и навесы казались непривычно пустыми. Аш прислушалась, ловя ухом крики играющих, но ничего не услышала.
— Ну, — сказала она. — Ну.
Она повернулась лицом к мужчинам в палатке. Пальцы Годфри судорожно вцепились в веревку, заменявшую ему пояс. Под его обветренными чертами еще можно было различить бледного пухлощекого юношу, каким он был тогда. Гнев, горевший в ней, вырвался наружу:
— И не смотри таким ягненочком! Ты же рад радешенек! Ты обожаешь, когда мне достается. Чтобы тебе можно было явиться этаким утешителем! Ты просто в восторге от меня, когда мне больно, верно? Проклятый девственник!
— Аш!
Выплеснувшийся гнев оставил после себя пустоту, свободную от уверенности, что целый мир полон лиц, скрывающих злобу, ненависть, презрение.
— Боже мой, Годфри, прости меня!
Лицо священника оттаяло, смывая выражение ужаса.
Флориан спросил:
— Что сделал мой брат?
Аш, ступая босыми ногами по сухим стеблям тростника, прошлась по палатке: тени от полосок на полотне ложились на ее лицо, отступали. Она села на сундук и натянула сапоги, попросила, не глядя на лекаря:
— Вина.
Грязная рука с кубком появилась у нее перед глазами. Аш взяла кубок, уставилась на серебристые пузырьки на поверхности красной жидкости.
— Ты будешь смеяться. Все смеются. В том-то и беда. — Она подняла голову. Флориан присел перед ней на корточки, так, что их лица оказались на одном уровне — лицом к лицу. — Знаешь, ты совсем на него не похож. Я ни за что не внесла бы тебя в списки, если бы увидела сходство.
— Все равно записала бы. — Флориан оперся ладонью на пол, не обращая внимания на грязные следы поверх тростника. Он улыбался. Грязь в морщинках от этого стала заметней, но в улыбке светилась нежность. — Где бы ты нашла доктора с дипломом школы Салерно, если бы не сыскался энтузиаст, который так и рвется оперировать раненых в битве, чтобы выяснить, как работает человеческое тело! Каждый отряд мечтал бы о таком! И где бы ты еще нашла человека, достаточно благоразумного, чтобы прямо говорить тебе, когда ты делаешь глупости? А сколько ты их делаешь! Я не знаю своего сводного братца, но что он мог сотворить такого?..
Флориан неожиданно выпрямился и стал растирать затекшую ногу. Грязь отваливалась кусками. Он снял со штанины пару самых больших сгустков и уголком глаза покосился на Аш:
— Он изнасиловал тебя?
— Нет. Это было бы лучше.
Аш потянулась и принялась распускать уложенные в тугую прическу волосы. Серебряные пряди рассыпались по спине.
Я сейчас здесь. Я сейчас здесь. Птичьи крики — карканье ворон, а не вопли чаек. Я сейчас здесь: сейчас лето, жаркое, даже после дождя. Но у меня руки застыли от обиды…
— Мне было двенадцать лет; за год до того Годфри забрал меня из обители святой Херлены. Это случилось уже тогда, когда я бросила место подмастерья у миланского оружейника и отыскала свой старый отряд Грифона… — В ее памяти снова шумели морские волны. — Тогда я еще надевала женское платье, если уходила из лагеря.
Не вставая с места, она дотянулась до своего меча, с перевязью, туго обмотанной вокруг рукояти. Круглая головка эфеса успокаивающе легла в ладонь. Кожаная обмотка истрепалась: надо бы сменить.
— Это было в таверне в Генуе. Парень сидел там с друзьями, они пригласили меня за свой стол. Кажется, это было летом. Темнело поздно. У него были зеленые глаза и светлые волосы, и в его лице не было ничего особенного, но впервые в жизни я взглянула на мужчину, и меня обдало жаром. Мне казалось, что и я ему нравлюсь.
Когда вспоминаешь, когда что-то заставляет вспоминать, кажется, будто видишь все издалека. Но как мало нужно усилий, чтобы снова почувствовать испарину страха, услышать собственный дрожащий голос, умоляющий: «Отпустите! Пожалуйста!». Она вырывалась у них из рук, а они тискали ей грудь, оставляя синяки, которые она ни за что не показала бы никакому лекарю.