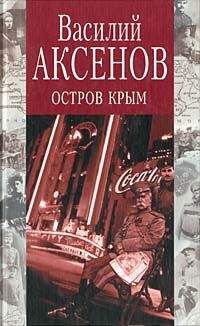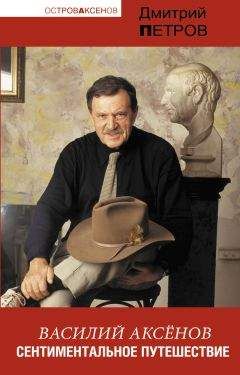Он поставил тут себя на место старого болвана-вохровца, вообразил, как вдруг рушится перед ним выстроенный скудным умом логический мир; сержант, черная «Волга», прищуренный глаз, как символы мощи и власти, которую он стерег, как пес, всю свою жизнь, вдруг оборачиваются против него, какая катастрофа. Нет, нет, отшвыривание, низвержение этих стариков, а имя им легион, было бы трагической ошибкой для государства, зачеркиванием целого периода истории. Негосударственно, неисторично.
Он думал весь остаток дня об этом «любопытном эпизоде» (именно так он решил обозначить его своей жене, когда придет время пошушукаться — «любопытный эпизод»). Думал об этом и за письменным столом во время чтения крымских газет. Нужно было подготовить небольшой обзор текущих событий на Острове для одного из членов Политбюро. Такие обзоры были коньком Марлена Михайловича, он относился к ним с большой ответственностью и увлечением, но сейчас проклятый «любопытный эпизод» мешал сосредоточиться, он мечтал, чтобы вечер скорее прошел, чтобы они, наконец, остались вдвоем с женой, чтобы можно было поделиться с ней своими ощущениями.
Лицо Тани Луниной, появившееся на экране телевизора, отвлекло его, пришли в голову мысли об Андрее Лучникове, о всем комплексе проблем, связанных с ним, но тут по ассоциативному ряду Марлен Михайлович добрался до режиссера Виталия Гангута, московского друга курируемой персоны, и подумал, что вот Гангут-то был бы нормален в дурацкой склоке на Пушкинской улице. Он подставлял на свое место Гангута, и получалось нормально, естественно. Он возвращал себя на свое место и получалось все неестественно, то есть, по определению Николая Гавриловича, безобразно.
Как всегда, на ночь глядя, и, как всегда, ни с того пи с сего позвонил старший сын от первого брака Дмитрий. Этот двадцатипятилетний парень был, что называется, «отрезанный ломоть», солист полуподпольной джаз-рок группы «С2Н5ОН». Дмитрий носил фамилию матери и требовал, чтобы его называли всегда концертным именем — Дим Шебеко. Он считал политику «дрисней», но, конечно же, был полнейшим диссидентом, если подразумевать под этим словом инакомыслие. Марлену Михайловичу иногда казалось, что Дим Шебеко стыдится родства с таким шишкой, как он, и утаивает это от своих «френдов». Впрочем, и у Марлена Михайловича было мало оснований гордиться таким сыночком перед товарищами по «этажу». Их отношения всю жизнь были изломанными, окрашенными не утихающей с годами яростью брошенной жены, то есть матери Дима Шебеко. В последнее время, правда, музыкант весьма как-то огрубел, отделил себя от обожаемой мамы, шлялся по столице с великолепной наплевательской улыбкой на наглой красивой физиономии, а с отцом установил естественные, то есть потребительские отношения, то деньжат попросит, то бутылку хорошей «негородской» водки из пайка. В этот раз он интересовался, когда приедет крымский кореш Андрей, ибо тот обещал ему в следующий приезд привезти последние пластинки Джона Кламмера и Китса Джеррета, а также группу «Секс пистолз», которая, но мнению Дима Шебеко, мало перспективна, как и вся культура «панк», но тем не менее нуждается в изучении.
Поговорив с сыном, Марлен Михайлович снова вернулся к «любопытному эпизоду», подумал о том, что на месте того длинноволосого мог бы свободно оказаться и Дим Шебеко. Впрочем, у Дима Шебеко такая рожа, что даже бдительный дядя Коля побоялся бы подступиться. «Давить таких надо, дад, — сказал бы Дим Шебеко. — Я на твоем месте задавил бы старую жабу».
В конце концов Марлен Михайлович отодвинулся от пишущей машинки и стал тупо ждать, когда закончится проклятая «Гвоздика». Телевизионные страсти отполыхали только в начале двенадцатого. Он слышал, как Вера Павловна провожала и спальню детей и ждал желанного мига встречи с женой. У них уже приближался серебряный юбилей, но чувства отнюдь не остыли. Напротив, едва ли не каждый вечер, несмотря на усталость, Марлен Михайлович сладостно предвкушал встречу с мягким нежнейшим телом вечно благоухающей Веры Павловны.
— Что это, лапик, Дим Шебеко звонил? — спросила жена, отдышавшись после встречи.
Голова Марлена Михайловича лежала на верном ее плече. Вот мир и милый и мирный, понятный в каждом квадратном сантиметре кожи — мир его жены, пригожие холмы и долины. Так бы и жил в нем, так и не выходил никогда в смутные пространства внешней политики.
— Знаешь, моя кисонька, сегодня со мной в городе случился любопытный эпизод, — еле слышно прошептал он, и она, поняв, что речь идет о важном, не повторила своего вопроса о звонке, а приготовилась слушать.
— Что же, Марлен, — сказала она, когда рассказ, вернее, весьма обстоятельный разбор кузенковских ощущений, цепляющихся за внешнюю пустяковость событий, был закончен. — Вот что я думаю, Марлен. А. — Она загнула мизинец левой руки, и ему, как всегда, показалось, что это не мизинец левой руки, но вот именно весьма серьезный А, за которым последуют Б, В, Г… родные, конкретные и умные. — А: тебе не нужно было влезать в эту потасовку, то есть не следовало обращать на нее внимания; Б: раз уж ты обратил на это внимание, то тебе следовало вступиться, и ты правильно сделал, что вступился; В: вступившись, лапик, ты вел себя идеально как человек с высоким нравственным потенциалом, и вопрос только в том, правильно ли ты закончил этот любопытный эпизод, то есть нужно ли было называть старика «грязным стукачом». И, наконец, Г: темный страх, который ты испытал под взглядом дяди Коли, вот что мне представляется самым существенным, ведь мы-то знаем с тобой, Марлуша, какой прозрачный этот страх и где его корни. Если хочешь, мне вся эта история представляется как бурный подсознательный твой протест против живущего в тебе и во мне да и во всем нашем поколении страха. Ну, а если это так, тогда все объяснимо и ес-тест-вен-но, ты меня понимаешь? Что касается возможного доноса со стороны припадочного старика, то это… — Вера Павловна отмахнула пятый пункт своих размышлений всей кистью руки, легко и небрежно, как бы не желая для такой чепухи и пальчики загибать. «Какая глубина, какая точность, — думал Марлен Михайлович, с благодарностью поглаживая женино плечо, — как она меня понимает. Какая стройная логика, какой нравственный потенциал!»
Вера Павловна была лектором Университета, заместителем секретаря факультетского партбюро, членом правления Общества культурных связей СССР — Восточное Средиземноморье, и действительно ей нельзя было отказать в только что перечисленных ее мужем качествах.
Облегченно и тихо они обнялись и заснули как единое целое, представляя собой не столь уж частое нынче под луной зрелище супружеского согласия. Рано утром их разбудил звонок из Парижа. Это был Андрей Лучников.