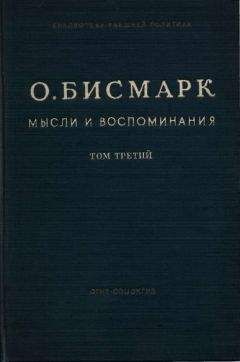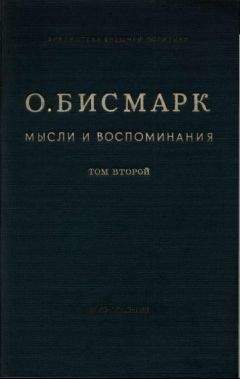В некоторых отношениях тщетны попытки найти аналогию между Вильгельмом II и его ближайшими тремя предками. Свойства, которые составляли основные черты характера Фридриха-Вильгельма III, Вильгельма I и Фридриха III, не выступают у молодого государя на первый план. Известное робкое недоверие к своим силам уступило место в четвертом поколении такой решительной самоуверенности, какой мы не видели на троне со времени Фридриха Великого и встречаем только у ныне правящего государя. Его брат принц Генрих[131], видимо, отличается такой же неуверенностью в собственных силах и такой же внутренней скромностью, которые при более близком ознакомлении можно было констатировать у императоров Фридриха и Вильгельма I, несмотря на все их олимпийское достоинство. У Вильгельма I глубокое и благочестивое упование на бога, при скромном и смиренном перед богом и людьми представлении о собственной личности, содействовало той твердости решений, которую он проявил во время конституционного конфликта. Сердечная доброта и искренняя правдивость обоих государей заставляли мириться с некоторыми отклонениями от общепринятых представлений о значении королевского происхождения и помазания на царство.
Пытаясь нарисовать образ теперешнего императора после прекращения моей службы у него, я нахожу, что свойства его предков воплощены в нем в такой форме, что могли бы иметь для моей привязанности большую притягательную силу, если бы были одухотворены принципом взаимности между монархом и подданными, между господином и слугой. Германское ленное право предоставляет вассалу, кроме обладания леном, мало правомочий, но дает право на взаимную верность между ним и феодалом; нарушение верности как с той, так и с другой стороны считается изменой. Вильгельм I, его сын и предки в большой мере обладали этим чувством верности, и оно является существенной основой для привязанности прусского народа к своим монархам. Это психологически понятно, так как склонность к односторонней любви не может являться постоянной движущей силой человеческой души. По отношению к императору Вильгельму II я не мог отрешиться от впечатления односторонней любви. Чувство, которое является наиболее прочной основой всего строя прусской армии, — чувство, что не только солдат никогда не оставит на произвол судьбы офицера, но и офицер — солдата, то чувство, которому, доходя даже до крайности, следовал Вильгельм I по отношению к своим подчиненным, до сих пор не обнаруживается в такой мере у молодого государя. Притязание на безусловную преданность, доверие и непоколебимую верность у него возросло, но склонность в обмен на это проявить со своей стороны доверие и верность до сих пор не обнаружилась. Легкость, с какой он, без объяснения причин, расстается со своими испытанными слугами, даже с теми, с кем он до того обращался, как с личными друзьями, — не усиливает, а ослабляет чувство доверия, которое в течение ряда поколений господствовало среди слуг прусских королей.
С переходом от гогенцоллерновского духа к кобурго-английским[132] понятиям было потеряно нечто невесомое, но трудно возместимое. Вильгельм I, быть может, выходя за пределы целесообразности, защищал и покрывал своих слуг также и в случае несчастья или неудачи. Вследствие этого у него были слуги, привязанные к нему и старавшиеся быть ему полезными даже в ущерб себе. Его теплая, сердечная благожелательность к другим становилась вообще непоколебимой, если к ней присоединялась благодарность за оказанные услуги. Он всегда был далек от мысли считать собственную волю единственной линией поведения и безразлично относиться к оскорблению чужих чувств. Его обращение с подчиненными всегда оставалось благосклонным обращением высокой особы, и этим смягчались размолвки, происходившие на деловой почве. Доходившие до его слуха наветы и клевета парализовались благородной прямотой его характера; карьеристы, единственная заслуга которых заключается в бесстыдной лести, не имели у Вильгельма I шансов на успех. Он не поддавался закулисным влияниям, и его нельзя было натравливать против его слуг даже в тех случаях, если это исходило от самых близких к нему высокопоставленных особ; а если он вступал в обсуждение такого рода сообщений, то делал это в открытой беседе с человеком, за спиной которого предполагалось воздействовать [на короля] путем этих сообщений. Когда он был другого мнения, чем я, то открыто высказывал мне это, обсуждая со мною вопрос, и если мне не удавалось убедить его, то я, когда это было возможно, подчинялся, а если это оказывалось невозможным, то откладывал дело или окончательно отказывался от него. Мои друзья искренне, а мои противники тенденциозно преувеличивали мою независимость в руководстве политикой: в тех случаях, когда король оказывал длительное и основанное на его личном убеждении сопротивление моим желаниям, я отказывался от них, не доводя до конфликта. Я довольствовался достижимым, и до strike [забастовки] с моей стороны доходило только в тех случаях, когда было задето мое личное чувство чести, как это имело место со стороны императрицы в вопросе «Reichsglocke», или в истории с Узедомом[133], в результате масонских влияний. Я не был ни царедворцем, ни масоном.
Император [Вильгельм II] обнаруживает стремление посредством уступок своим врагам сделать излишней поддержку своих друзей. Его дед также пытался при вступлении в регентство добиться всеобщего удовлетворения своих подданных, не теряя их повиновения и не подвергая таким образом угрозе безопасность государства; но после четырехлетнего опыта[134] он понял ошибки своих советников и своей супруги, полагавших, что посредством либеральных уступок противники монархии превратятся в ее друзей и опору. Поэтому в 1862 г. он склонялся скорее к отречению, чем к дальнейшим уступкам парламентскому либерализму, и, опираясь на скрытые, но в конечном счете более сильные, преданные элементы, вступил в борьбу.
Одушевляемый христианской, но в делах этого мира не всегда успешной, тенденцией к примирению, император [Вильгельм II] начал со своего злейшего врага, с социал-демократии. Эта первая ошибка, которая проявилась уже раньше в отношении к забастовкам 1889 г., привела к повышенным претензиям социалистов и новому недовольству монарха, когда выяснилось, что при новом режиме, как и при старом, наилучшие намерения монарха не властны изменить природу вещей и природу человеческую. У императора не было опыта в области человеческих страстей и вожделений, а то обстоятельство, что он потерял прежнее доверие к суждениям и опыту других, было результатом интриг, которые укрепили его в недооценке трудности управления. Эти интриги исходили не только от непрошенных советников вроде Гинцпетера, Берлепша, Гейдена, Дугласа и других беззастенчивых льстецов, но и от карьеристски настроенных генералов и адъютантов и от моих коллег, в помощи которых я нуждался, как, например, Беттихера, у которого, в качестве министра, не было никакой другой функции, кроме оказания мне помощи; даже некоторые из моих советников, подобно президенту фон Берлепшу, охотно и тайно отдавали себя в распоряжение императора, когда последний обращался к ним с вопросами, обходя их начальников. Быть может, по отношению к социал-демократии его постигнет такое же разочарование, как его деда в 1862 г. в отношении прогрессистской партии.
Та же политика уступок, чтобы не сказать прислуживания, была принята также по отношению к центру и Виндгорсту. Простая беседа с этим последним послужила императору одним из внешних поводов к разрыву со мной, а после моей отставки официальное чествование Виндгорста[135] усиливалось вплоть до апофеоза после его смерти; странный «прусский» святой. Следует опасаться, что и эта, пользующаяся покровительством, опора монархии зашатается в момент, когда потребуется ее помощь. Во всяком случае, полное удовлетворение союзников, которых могла бы найти прусская монархия и евангелическая империя у центра и ордена иезуитов, окажется столь же недостижимым, как и удовлетворение социалистов. В случае опасности и нужды произойдут события, аналогичные тем, которые имели место во время распада Тевтонского ордена в Пруссии, в результате поведения наемников, которых орден не в состоянии был оплатить[136]. Склонность императора привлекать на службу короне антимонархические и антипрусские элементы — вроде поляков — в данный момент дает его величеству средство давления на партии и фракции, которые остаются принципиально верными монархическим традициям. Угроза, что в случае если ему не будут беспрекословно повиноваться, он еще более поддастся влево и поставит у кормила правления социалистов, скрытых республиканцев из партии свободомыслящих и ультрамонтанские элементы[137], — словом, «Acheronta movebo» [«приведу в движение силы ада»] — угроза, которая выражается в ухаживании за непримиримыми врагами, отпугивает традиционных приверженцев монархической власти. Они боятся, «как бы не стало еще хуже», а император в настоящее время находится по отношению к ним в положении капитана корабля, чье руководство вызывает тревогу у команды, но который с зажженной сигарой сидит на бочке с порохом.