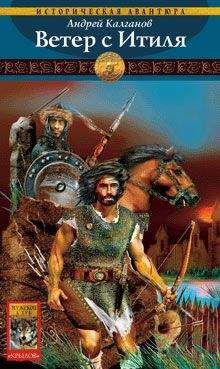«Ваз двадцать один сто десять, ваз двадцать один сто десять, приказываю остановиться», – рявкнула вылетевшая из-за поворота милицейская «шестера» с круглыми, словно она постоянно тужится, фарами-глазами. Степан выругался и прижался к обочине.
«Шестера» обошла Степана, выполнила «полицейский разворот» и стала метрах в трех. Небрежно покачивая автоматом, гаишник подошел к боковой дверце «десятки».
– На тот свет спешим или, может, денег много, так это мы быстро поправим, – мент наклонился, взглянул в окошко и чуть растерянно добавил: – Святой отец?..
Лейтенантик Степану сразу не понравился. Парню лет двадцать пять от силы, а уже, по всему видать, своего не упустит – хоть доллары вместо погон приклеивай. Белбородко посмурнел: в кои веки выбрался к любимой женщине, как тать нагрянул… Ладно бы за безопасность движения радел, так ведь иное радение на лбу написано. Впрочем, попал Степан рублей на сто, не больше… Можно и пережить.
– Проштрафился, голубчик, виноват, – пробасил Белбородко. – На вот, и да хранит тебя господь, – и протянул сторублевку.
Но сотни лейтенанту показалось мало, сглазил Степан.
– Вы что это, святой отец, взятку мне предлагаете?
– Свят-свят-свят! Что ты, голубчик…
– Думаешь, сунул гаишнику стольник и отвалил? – Мент перешел «на ты». – Ща быстренько протокол по всем правилам оформим да машину на штраф-стояночку и отправим. Остаканился, видать, батюшка, да за руль. Не дело, ох не дело.
Этот не отстанет, пока не выдоит клиента. Степан медленно начинал закипать.
– Побойся Бога, служивый! – пророкотал Белбородко.
– А не хотим прав лишиться, – ухмыльнулся гаишник, – предложи чего посущественней стольника, заинтересуй. Может, и расстанемся друзьями.
«Щас я те так предложу, – взбесился Степан, – ты у меня по врачам до старости лет ходить будешь!»
– Прокляну, не встанет! – процедил он не оборачиваясь. – Мое слово верное, нерушимое. Немочь телесную напущу, в церкви Божьей не отмолишься.
Фраза прозвучала так безапелляционно и так дико, что парень отшатнулся.
– Как птицы Божии за моря, звери за леса, железо в мать-руду, кости в мать-землю, так ты, отродье бесовское, будешь слушаться моего слова, потому слово мое в уши тебе, аки вода речная в морскую воду проникнет. Нечисть болотная, подколодная, от синего тумана, от пьяного дурмана, где гниет колос, где жгут конский волос, где поля поросли бурьян-травой, забери потомство у безбожника, лиши сил мужеских. Как дурной тын под ветром клонится, пусть так клонится его корень, мое слово верное, нерушимое. Аминь. – Тут Белбородко осенил себя крестным знаменьем.
Лейтенантик побледнел.
– Да я ж это… Я ж только хотел, чтоб вы поосторожнее, святой отец. Езжайте, – заикался он. – Н-не надо, ладушки?
И тут в Белбородко вселился бес, иначе объяснить свою выходку он не мог. Вместо того чтобы сказать «угу» и быстренько нажать на педаль газа, он насупился и сурово произнес:
– Поздно спохватился, нечестивец, заклятье уже наложено!
– А, нельзя ли… – замялся гаишник, – как-нибудь смягчить, ну, вы же понимаете…
– Пятьсот бесовскими, – все с той же будничной, монотонной интонацией, не поворачивая головы, проговорил Белбородко.
– Это зелеными, что ли? – охнул гаишник. – Да откуда же у меня…
– Дело твое, – равнодушно сказал Степан, – пора мне, служивый. Или, может, штраф заплатить?
– Что вы, что вы, – испугался гаишник, – погодите немножко. А по курсу можно?
– Можно и по курсу.
Гаишник, спотыкаясь, подбежал к машине, принялся шуршать дензнаками.
– Вот, как сказали. Только не надо, ладушки?
– Послушание на тебя наложу, – басовито сказал Степан. – Как птица всякая вьет гнезда из веток, так и ты, раб Божий, совьешь гнездо души своей из Святого Писания. Семижды книгу святую перепишешь, тогда силы телесные к тебе вернутся. Аминь![16]
Лейтенантик чуть не заплакал:
– Так оно же толстенное… Да когда я его перепишу, мне уже не надо будет.
– Дело твое, – серьезно сказал Степан и вперился в ветровое стекло.
– А нельзя ли?..
– Триста.
Гаишник уже не возражал. Необходимая сумма захрустела в руках Степана.
– Как луна вылезет из облаков, обойдешь трижды вокруг вон той березы, что у обочины, приговаривая: «Возьми, береза-сестра, недуг мой, а от меня отвороти» – заговор и отпустит. Запомнил?
– Угу.
Парень переминался с ноги на ногу, пытаясь еще о чем-то спросить. Наконец набрался смелости:
– Я это… святой отец, может, я еще добавлю, а вы там поворожите, ну, чтобы… как у слона…
– Двести! – сказал Степан. Вконец ошалевший гаишник отслюнил. – Пойдешь в лес через час и поймаешь две жабы, самку и самца, посадишь в коробку, а в коробке той провертишь дырки, понял? И подождешь, пока совокупляться начнут.
– Ну?
– Отнесешь ту коробку на муравейник. Вернешься дня через три, муравьи жаб до костей обгрызут. Ты кости в тряпицу соберешь вместе с остатками кожи, обвяжешь бечевкой и на грудь повесишь. Понял?
– Угу. А поможет?
– Мое слово крепкое, нерушимое. Аминь!
Степан перекрестил молодца, забрал неправедно нажитое и отчалил. На душе пели соловьи, и с ветки на ветку прыгали мартышки. И лишь один вопрос не давал покоя: как отличить жабу от «жаба», по каким таким половым признакам?
* * *
Тогда, можно сказать, ему повезло. Но и время было другое, и он другой, да и гаишник – совсем юнец. Алатор же на юнца вовсе не походил, более того, по всему видно, убьет каждого, кто хоть намекнет на сходство. И что самое мерзкое, с русским языком не дружит, а значит, попросту не врубается, о чем идет речь.
«Придется договариваться», – заключил Степан.
– Послушай, братец, нам бы на постой… – сказал он.
Мужик хрумкнул луковицей и выдохнул (ох, тяжел русский дух!), уставился на него как-то уж очень неласково, но в драку не полез. Лениво обернулся и что-то рявкнул. Шустрик было подал голос, но тут же, получив по сопатке, замолк.
«Не вмешивайся, – урезонил себя Степан. – Дела семейные. В конце концов, что я пацану, телохранитель? Пусть сам разбирается». Но Шустрик, похоже, и не думал протестовать, утерся рукавом и уткнулся взглядом в землю.
Послышался тяжелый топот. За спиной у стража возникло несколько бородатых мужиков с топорами наперевес.
Алатор лениво посторонился, пропуская «черносотенцев». Один случайно задел его плечом и получил затрещину. Это произошло так естественно, будто отвешивать здоровым дядькам подзатыльники – дело вполне обыденное. Примерно такое же, как грызть луковицу. Видно, оно так и было, потому что мужик не восстал за поруганную честь, а преспокойно протиснулся в ворота и присоединился к остальным.