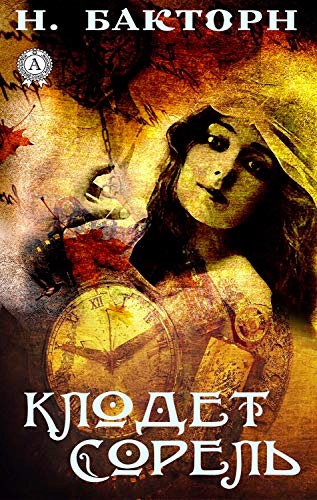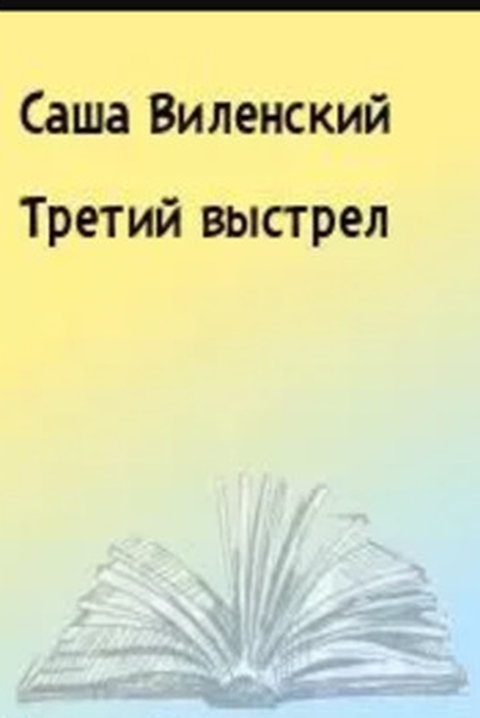Кузя! Курить есть?
В комнату ввалился толстый шумный Финкельштейн, сразу же заполнив собой все пространство, уселся на край стола, от чего тот угрожающе пошатнулся, бесцеремонно схватил картонную папку.
— А-а-а, прынцесса! — швырнул папку обратно на стол.
— Какая принцесса? — удивился Кузин, протягивая ему папиросы.
— Обыкновенная. Анастасия Николаевна Романова, дочь бывшего Государя Императора Николая Александровича.
Финкельштейн спрыгнул со стола, который, жалобно скрипнув, вернулся в исходное положение. Порылся в карманах, вытащил коробок спичек, чиркнул, прикурил сам, дал прикурить Кузе.
— А причем тут она?
— Ну, как причем? Ее за что взяли-то? Ты вообще, чем тексты читаешь, Кузя? — Финкельштейн вытянул лист из дела, прочитал:
— «…Неизвестная женщина 30 лет, которая выдавала себя за дочь бывшего царя Николая II — великую княжну Анастасию Николаевну Романову». Что непонятно-то? Возвращение блудной дочери.
— Да ладно, она, по-твоему, и правда княжна?
— Нет, конечно. Понятно, что самозванка, факт. Но если ты думаешь, что тут все просто и ты в два дня закроешь дело, то ты, друг мой Кузя, сильно ошибаешься. Ты в каком отделе работаешь? В секретно-политическом! Почему из Ялты ее к нам направили? Думаешь, просто так тебе эту сумасшедшую сунули? Тут, брат, можно такую историю раскрутить!
Кузя помрачнел.
— Вот что ты за человек, Финкель, а?
— Финкельштейн! — поправил коллега.
— Тогда и я — Кузин, а не Кузя! — парировал опер. — Тут, если хочешь, монархический заговор, а ты пытаешься мне впарить историю какой-то мифической княжны.
— Почему мифической? — удивился Финкельштейн. — Очень даже не мифической. Младшая дочь Николашки, по слухам, расстреляна вместе со всей семьей в Екатеринбурге, ныне город Свердловск. Ты, конечно, за иностранной прессой не следишь, хотя по долгу службы должен бы. Так что наверняка понятия не имеешь, что в Германии уже давно живет женщина, выдающая себя за нее, Анастасию [1]. И носятся с ней белоэмигранты как дурень с писаной торбой.
— Что-то ты подозрительно много о царских дочерях знаешь! — прищурился Кузин.
— Естественно, — спокойно ответил Финкельштейн. — Потому что, во-первых, я свердловчанин, а там про расстрел царя каждый ребенок знает, во-вторых, я — уполномоченный госбезопасности, так что обязан быть в курсе всего. Дорастешь до меня — поймешь! А в-третьих, это имеет непосредственное отношение к одному делу.
— А что за дело?
— Интересное, — усмехнулся толстый опер. — Есть такое дело, поручено мне быть сегодня третейским судьей на одном судилище, которое имеет к расстрелу царя самое прямое отношение. Так что головой-то подумай, кому как не мне быть в курсе всех перипетий запутанной истории с детками покойного императора. Ты, Кузя, ежели тебе чего непонятно, не стесняйся, спрашивай: Финкель добрый, он поможет! — и захохотал, довольный шуткой.
— Ну, хрен с тобой, валяй в форме! — равнодушно согласился Финкельштейн.
Где-то в половине седьмого оба опера отправились на Остоженку, неторопливо шагая от площади Дзержинского через перекопанную Манежную, лавируя между заборами,
окружавшими две гигантские стройки — с одной стороны, необъятный котлован Дома Советов, с другой — Метрострой.
Финкельштейн сверился с адресом, написанным на бумажке, вместе отыскали нужный дом, поднялись на шестой этаж. Дверь открыл недовольный человек с наголо бритой головой. Побрился, видно, недавно, отметил Кузин, прямо сверкает.
— А это кто? — спросил бритый, мрачно бросив взгляд на Кузина.
— Со мной, — коротко бросил Финкельштейн и, отодвинув бритого, прошел внутрь.
В большой комнате за круглым столом сидело несколько мужчин довольно странного вида. Похожие друг на друга, одинаково одетые в какие-то пиджачные пары, одинаково молчаливые и одинаково неулыбчивые. Оба опера поздоровались, но им никто не ответил. Только бритый, открывавший дверь, кивнул на маленький столик в углу, на котором стоял самовар и несколько стаканов, вставленных один в другой. «Хоть бы баранок каких предложили, или хлеба на худой конец!» — подумал Кузин, и сразу в животе заныло от голода. Вечно с этой работой пожрать не успеваешь.
Снова затренькал звонок, бритый встал, пошел открывать. Остальные не двинулись.
Пока Кузя наливал себе жидкий чай («С заваркой у них так же, как с баранками!»), в комнату вошел мужчина лет сорока, в такой же форме, как и у Финкельштейна с Кузиным, но с васильковыми — «гулаговскими» — петлицами. Кивнул коллегам, приложив пальцы к козырьку фуражки, и быстро прошел. Сел на свободный стул. Оперы остались стоять, им сесть никто не предложил. Кузин стал потихоньку закипать, злиться и на Финкельштейна, и на этих неприятных мужиков, демонстративно их не замечающих. А Финкель тот наоборот чувствовал себя как рыба в воде: уселся на маленький столик, чуть не перевернув самовар и стаканы, с любопытством разглядывал пришедшего.
— Ну что, Стоянович, начнем? — обратился к пришедшему один из мрачных, видимо, старший.
— Начнем, — согласился тот.
— Значит, дело тут такое, — старший положил тяжелую руку на столешницу. — Константин Алексеевич Стоянович, он же — Костя Мячин, которого мы все хорошо знаем, наш бывший товарищ по Боевой организации. Костя вместе с нами участвовал в эксах, еще до революции вел активную партийную работу. А недавно был осужден, получил десятку, но освобожден досрочно — за ударную работу на строительстве Беломорско-Балтийского канала. И даже был принят после этого на работу в органы, в ведомство товарища Бермана [2]. В данный момент служит начальником исправительно-трудовой колонии, то есть, как видите, чекисты оказали ему самое высокое доверие, поставив охранять и перевоспитывать контру.
Сидящие вокруг стола одобрительно загудели. Старший поднял руку.
— Но есть тут одна загвоздка. Константина Алексеевича в свое время исключили из партии, и теперь, чтобы снова встать в ряды партийцев, ему нужна рекомендация. И не формальная бумажка, а рекомендация старых испытанных товарищей. То есть, нас.
Старший неожиданно улыбнулся.
— Какие будут мнения?
— А пусть расскажет, как он в Китае вместе с беляками оказался! — неожиданно злобно выкрикнул кто-то.
Мужчина с васильковыми петлицами встал, оправил гимнастерку.
— В Китай я бежал, спасаясь от расстрела.
— А почему в Китай-то? Не мог бежать к нашим?
— Не мог.
— Почему?
Мячин-Стоянович помолчал и быстро заговорил:
— Можно подумать, что для присутствующих это какая-то тайна. Бежать к своим я не мог, потому что белогвардейская контрразведка выпустила за моей подписью воззвание к красноармейцам с призывом переходить на сторону Комуча [3].
— Что такое «Комуч»? — шепотом спросил Кузин у коллеги. На них обернулись.
— Комитет учредительного собрания, эсеры и меньшевики. Потом расскажу! — так же шепотом ответил Финкельштейн.
«Беляки, в общем», — понял Кузин.
— А ты такое воззвание не подписывал? — язвительно спросил бритый.
Стоянович задумался, нервно потеребил край скатерти.
— Подписывал, — неохотно признал он и торопливо продолжил. — Но это было частью задуманного плана.
— Да какого там плана! — махнул рукой вопрошавший. — Сказал