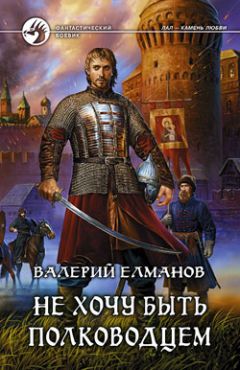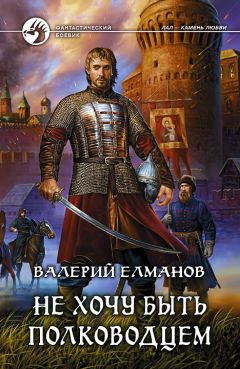Увиденное успокоило окончательно. Ненависть с его лица исчезла. Совсем. Ну и славно. Значит, легкая смерть мне обеспечена. С гарантией. Правда, настороженность все равно осталась, но последняя у него, скорее всего, в крови.
— Ишь ты, заюлил, — недовольно хмыкнул Иоанн. — Не пойму я тебя, фрязин. То ты одно, а то — совсем другое. Уж больно мудрено изъясняешься.
— А дозволь, государь, я тебе притчу расскажу, — воодушевился я. — Было у хозяина во дворе две бочки. В одной он медок держал, а в другой — нечистоты. И как-то раз нерадивые слуги их спутали. Один в бочку со сквернотами ведро с медом вылил, а другой горшок нечистот в бочку с медом опрокинул. И что получилось?
В обоих дерьмо стало, — буркнул Иоанн.
Точно, — подтвердил я. — И хоть было в том горшке немного, пить из бочки все равно никто не стал. Вот и в народе я такую же присказку слыхал: «Одна паршивая овца все стадо портит». Потому и болтает простой люд про опричников разное непотребство. Они ведь как судят — поглядели, что творит какой-то один, ну, значит, и остальные такие же, раз они из этого же болота вылезли. А если б не было меж ними отличий — совсем иное дело.
— А кто болтает? — свирепо осведомился Малюта.
Я недоуменно пожал плечами и простодушно заметил:
— Разве ж упомнишь. Многие.
— И показать смогёшь? — насторожился Скуратов.
— Да как их покажешь, — развел руками я. — Вон на Пожаре голоса и там и сям раздаются. А оглянись — десятка два за спиной стоят. Кто из них хулу сказывал — бог весть. Да и не силен я в сыскных делах, Григорий Лукьянович.
— Эх ты, фрязин. Сразу видать, что немец[20] — с чувством явного превосходства хмыкнул Скуратов. — Надобно было для началу…
Но тут его бесцеремонно перебил Иоанн:
— Егда повелю сего фрязина к тебе приставить, чтоб ты поучил его малость в своем ремесле, тогда и сказывать учнешь, что надобно для началу, а что опосля. Покамест же неча тут. К тому ж фрязин не для того сказывал, а вовсе для иного. Эх ты, Гришка… — протянул он с чувством превосходства, повелительно махнув рукой, унизанной перстнями. — Ступай себе. — И, даже не дожидаясь его ухода, с хитрецой спросил меня: — А ежели бы я и впрямь тебя к пыточному делу приставил, тогда как? Ослушался бы царева повеления?
Меня чуть не передернуло. Все понимаю. Иной раз и матерый честный воин за нож берется. А как иначе, коль пленный татарин молчит и, пока ты ему не поджаришь на костре пятки, не скажет ни слова? С души воротит, противно, но надо, потому что война есть война, и выбор невелик — либо заговорит пленный, либо погибнут твои люди, нарвавшись на засаду. И мораль с гуманизмом тут не в чести — скорее уж в укор. Хочешь в святоши — пшел вон в монастырь, и нечего путаться меж воинами, у которых задача не себя спасти и не свою душу для рая сохранить, а за Русь грудью встать. Но идти в заплечных дел мастера?!
Я не смог сдержаться, и хорошо, что Скуратов к тому времени уже вышел, поскольку при всей своей недогадливости он бы прекрасно понял мое подлинное отношение к нему и его бравым ребятишкам.
— Оскорбить хочешь, государь? — в лоб спросил я. — За что?
Царь сразу заюлил, завертелся. Не понравилось, когда вот так, в открытую. Не привык. Оправдываться принялся. Это передо мной-то, иноземцем.
— Проверял я тебя просто. Иной, ежели повелю, в отца родного нож вонзит — вот кака подла душонка. Но я таковских и сам при себе не держу, уж больно мерзки, — пренебрежительно заметил он.
«Это про Федора Басманова, — понял я. — А может, не только про него. Ну ладно. Будем считать, ты передо мной извинился. Пусть неумело, но хоть так. А на будущее, чтоб у тебя подобные глупости с языка не слетали…»
— Расскажу я тебе еще одну притчу, государь. Жили некогда два брата-царя, и каждый имел свое царство. Один был глуп и больше всего хотел, чтоб любой подданный непременно выполнял его повеления. Он даже проверял их. В один день повелит горшечникам стать пирожниками, а ткачам кузнецами, а сам наблюдает, все ли выполнили его повеление. Потом он попов поставил в воины, а катов назначил в священники и тоже бдил — все ли его послушались. Только длилось это недолго — развалилось царство. Когда ворог пришел, не то что воевать стало некому — погибших отпевать и то людишек не нашлось. А другой брат оказался мудрым царем. Он, прежде чем назначить человека на какое-то место, всегда к нему приглядывался да присматривался — не загубит ли тот дело, которое ему поручат. Да и не гнушался спросить, вот как ты сейчас меня, даешь, мол, свое согласие или нет, потому что в мудрости своей сознавал — коль самому человеку повеление придется не по нутру, то он его исполнит, но без души и без сердца. Да так неумело, что за ним все равно придется переделывать — так что лучше бы тот и вовсе за него не брался. И росло его царство, процветало и…
— Потому я тебя и спросил, — оживился Иоанн.
И опять смущения как не бывало, глазки блестят, губенки самодовольно поджаты… Господи, как мало иному надо для счастья — чтоб его мудрецом назвали. Впрочем, все остальное у него уже есть.
Вот так мы с ним и общались. Ежедневно. А свою «гениальную» идею стравить меня с кем-нибудь из своих ближних он не оставил. И осуществил.
Подумаешь, с Малютой не вышло. При дворе народу хватает. Причем во враги он мне определил целый род, поручив перед своим отъездом в Новгород… постричь свою четвертую супругу, царицу Анну Алексеевну Колтовскую. А у нее только родных и двоюродных дядьев больше десяти. Если присовокупить братьев, родных и прочих, то и вовсе набегает к трем десяткам. Понятно, что при дворе их меньше — не каждому родичу жены досталось по прянику, но тоже хватало.
Когда я впервые услышал об этом повелении, то, наверное, вид у меня был тот еще. Во всяком случае, царь от хохота не удержался. Не знаю, может, сам бы покатился со смеху, поглядев на себя со стороны, но тогда мне было не до веселья.
— Государь, насколь мне ведомо, постригают в монахини люди духовного звания, — осторожно напомнил я. — Я же — князь, и в священники не собираюсь.
— Твое дело — за пристава у нее быть, — пояснил Иоанн, вытерев выступившие на глаза слезы, и успокоил: — Да не боись. Отсель до Горицкого Воскресенского монастыря мигом домчишь. А уж там, как обряды справите, мой поезд и догонишь. — И хитро подмигнул, поясняя: — Не любят у меня в палатах тех, с кем я вот яко с тобой — в задушевных говорях[21] время провожу. Не ныне, так завтра, случись что на пиру, местничаться полезут, а у тебя за душой, окромя римских корней, ничегошеньки и нету. Да и далек Рим. Опять же, коль я тебя на службу к себе принял, стало быть, и чин должон дать. Вот чтоб у иных-прочих завидки душу не терзали, мол, больно скоро да излиха высок, я тебя с Аннушкой и посылаю. Тут уж сыном боярским не отделаешься. Чай, не у кого-нибудь за приставом — у самой царицы.