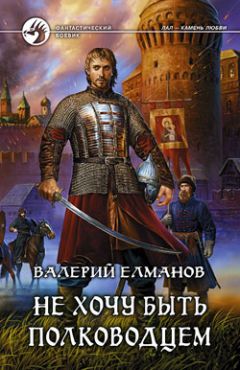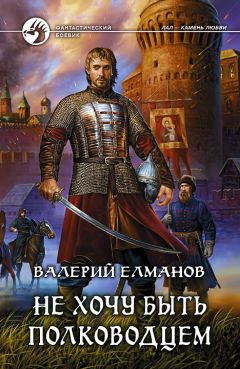Еще бы, я ж повествовал об индейцах-ирокезах, а по их обычаям всем заправляла Великая Мать. Словом, пролил бальзам на ее сердце. Потом рассказал кое-что и про амазонок. То есть подбирал приятные животрепещущие темы на злобу дня и… на злобу сердца Анны Алексеевны.
Она даже стала задавать вопросы — как это, да как то, причем деловитые. Ну что ж, раз заинтересовали подробности — дело пошло на лад…
Вот так царица понемногу и оттаяла. На шестой день я мог вздохнуть поспокойнее, невзирая на широкую гладь реки, хотя все равно не рисковал оставлять ее одну с няньками да мамками — мало ли.
А потом — мы к тому времени отплыли из Углича — и вовсе разговорилась со мной «за жизнь». Но и тут поначалу осторожничала, предпочитая расспрашивать меня — кто, откуда и так далее. Отвечал я односложно, стараясь не вдаваться в подробности, чтоб потом не попасть впросак — пойди запомни все вранье, чтоб потом повторить все в точности. Завтра себя вчерашнего процитировать легко, через неделю — с трудом, через месяц — не знаю, а если через полгода?
Совсем она расслабилась, узнав, что я сирота. Вот уж воистину, если путь к сердцу мужчины лежит через желудок, то к сердцу женщины — через жалость. Во всяком случае — к сердцу русской женщины.
Вот и я тоже… сирота, — со вздохом заметила она.
Вроде и мать, и отец имеются, — осторожно возразил я. — Опять же у тебя одних только дядьев и братьев не сосчитать…
А хоть один из них мне ныне подсобил? — невесело усмехнулась она и тоскливо повторила: — Хоть один…
Я попытался восстановить справедливость, напомнив кучу пословиц и насчет плети, которой обуха не перешибить, и многие иные из той же серии. Но она и без того все прекрасно понимала, а имела в виду совсем другое:
Сама ведаю — с государем не поспоришь. Токмо могли бы хошь заглянуть на чуток, подбодрить, слезу утереть. Нешто бабе много надобно — отреветься на плече крепком, словцо ласковое на ушко шепнул, ну хошь по голове бы кто дланью погладил, все не так тяжко. Ан поди ж ты — ни один не заглянул. Небось батюшка, Ляксей Григорьич, когда через мою кику боярскую шапку получил, иные песенки пел. Да и братец мой Гришка тоже хорош. Нешто выдал бы за него князь Борис Тулупов сестру свою, хучь Гришка и кравчий? Он же не за Колтовского Настасью отдавал, а за шурина царева. Вот как славно, — всплеснула она руками, — всем Аннушка угодила, всем порадела, а ныне у каждого свое счастьице, одной ей ничегошеньки не досталось. И ни одна жива душа от своего каравая ломоть не отломила. А мне ведь ныне и крошки было б довольно, да токмо нет ее.
Я молча залез в дорожный сундучок, стоящий в ногах, извлек оттуда каравай хлеба и разломил пополам, протянув ей обе половинки:
Выбирай, что побольше.
Она растерянно взяла, недоумевающе посмотрела на него и возмутилась:
Да нешто я о том?! Я ж… — Но осеклась, поняв мою незамысловатую шутку, и весело рассмеялась.
Первый раз за поездку я услышал ее смех. Он звучал как серебристый колокольчик, тихо и мелодично. Даже старуха-нянька, мирно похрапывавшая рядом с царицей, не только не проснулась, но и не перестала похрапывать.
А колокольчик в этот день звонил еще и еще, с каждым разом становясь все звучнее и заливистее. И с каждым разом взгляд Анны, устремленный на меня, становился все более пытливым и задумчивым, словно она решала для себя некую задачу, но так и не могла прийти к какому-то решению.
А время от времени она даже удостаивала меня комплиментов. Тогда-то я думал — из чувства простой благодарности за часы развлечения.
Не личит тебе эта ряса, княж Константин, — заметила она с лукавинкой. — Ты для нее не гож — уж больно пригож. — И сама засмеялась собственному каламбуру.
Лишь когда мы почти подплыли к монастырю и вдали уже показались церковные купола, она вновь посерьезнела и грустно заметила:
Если б моим братом был ты, княж Константин Юрьич, то на жалость бы не поскупился.
Я засмущался:
У нас в корзинке еще каравай есть. Могу разломить.
Но попытка перевести все в шутку не удалась — правда, Анна вновь засмеялась, но на этот раз даже в ее смехе сквозили все те же задумчивые нотки.
Признаться, мне тогда и в голову не пришло, что именно она задумала. Скорее наоборот — я посчитал, что вид монастыря вновь напомнил ей о том, как и где теперь пройдет ее жизнь, поэтому она расстроилась, и мне, как главному охраннику, нужно ждать любой неожиданности.
Да и замечания у нее были под стать унылому внешнему виду.
Вона даже церковь божия и то две главы имеет, — сразу по приезде ткнула она пальцем в двухкупольный соборный храм Воскресения. — Вдвоем-то, видать, и богу молиться сподручнее, не то что мне одной. — А хладом-то с камня монастырского не простым несет — могильным, — жалобно произнесла она еще на подходе к воротам, тоскливо оглядываясь назад. — Худо, видать, ласкает жених своих невест, коль они тут такие смурные. — Это уже комментарий при виде трех монахинь, выходивших из странноприимного дома.
Словом, с таким настроем от человека можно ждать чего угодно. Примерно в этом духе я и инструктировал каждого ратника: «Бди в оба, а зри — в три». Я и пост у ее этажа выставил как положено, по всем правилам караульной службы, причем сразу из двух человек. Полночи одна пара, полночи — другая. Себя я от дежурства освободил — начальник, хотя где-то к полуночи собирался выглянуть в коридор и посмотреть что и как. Но не успел.
Вроде бы и закрыл глаза всего на одну секундочку, а коварный сон тут как тут — навалился, окаянный, и проснулся я от того, что меня кто-то целует. Точнее, нет. Я целовался еще во сне. Нежно-нежно. А уж потом проснулся и поначалу даже удивился — сон-то кончился, а поцелуй продолжается. Как же так? Перепугаться не успел — луна-бесстыдница заглядывала прямо в мое окошко, так что лицо Анны Алексеевны разглядел сразу.
Поначалу я еще сопротивлялся. Вежливо отстранил будущую монахиню и даже открыл рот, чтобы прочесть соответствующую нотацию, но тут у меня ничего не вышло. Закрыли мне его. Накрепко. Нет, не поцелуем — ладошкой. Чтоб не мешал репликами. Закрыли и свою нотацию прочли. Коротенькую совсем, но было в ней столько тоски пополам с отчаянием, и такая жгучая просьба, что…
— Я ведь вижу — ты сам любишь, — шептала Анна, а слезы, красноречиво подтверждая искренность и правоту, меж тем беззвучно катились по ее щекам одна за другой. — Потому и прошу всего-навсего — пожалей. Ты можешь, я знаю. Мне ж девятнадцать годков токмо, и на всю жизнь в клеть каменну, яко татя поганого. А за что?! В чем я провинилась?! И не в том горе, что гнить заживо, а в том, что и вспомнить будет нечего. Так дай мне для памяти жали своей. Вон у тебя ее сколь — дай, не скупись. Кому от того урон? А я эту ноченьку до скончания своих дней в сердце хранить стану.