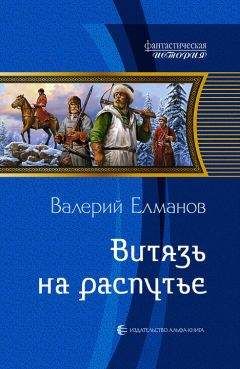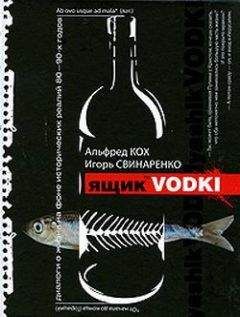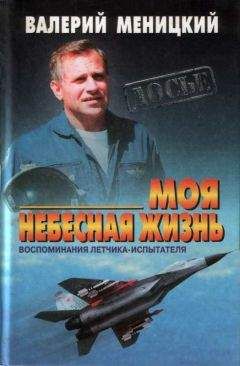На некоторое время он даже потерял дар речи, но потом его осенило, и он поинтересовался, неужто князь надумал сыграть свадебку. Пришлось его разочаровать, сказав, что свое венчание я наметил не ранее следующей весны, хотя не исключено, что он сыграет и на свадебке, а пока ему придется как следует к ней подготовиться, для чего ему и надо явиться ко мне где-то через седмицу. А еще лучше будет, если он явится не один, а с другими гудошниками и прочими музыкантами, только не абы какими, а действительно хорошими.
– И что ж, всех примешь к себе? – спросил он напоследок, стоя уже у Ильинских ворот.
– Вначале проверю, насколько они искусны, а уж потом и говорить станем, Митрофан-Епифан, – ответил я.
На том и распрощались. Он побежал догонять остальных, а я повернул коня обратно к торжищу – так и не договорил с купцами, а по пути все гадал, каким бы образом исхитриться и выпроводить из Костромы митрополита.
Но все разрешилось само собой. Спустя всего день выяснилось, почему владыка тянул со своим отъездом…
Об этом я догадался, едва услышал, что к пристани причалили три струга – частично прощенный государем боярин Василий Иванович Шуйский следовал из Вятки в свои вотчины, то есть в Борисоглебскую слободу[55], а попутно решил наведаться в гости к престолоблюстителю.
Сам боярин – плюгавый старикашка с подслеповатыми слезящимися глазками – при первой же встрече принялся уверять Годунова, что заехал исключительно для того, чтобы еще раз самолично уверить Федора Борисовича, что нет на нем вины в том ужасном деянии, в котором его обвинили. Вон и владыка может это подтвердить – и тут же быстро скользнул взглядом по строго поджавшему губы митрополиту, словно вопрошал его о чем-то. Гермоген в ответ медленно кивнул, подтверждая, и в то же время чуть подмигнул Василию Ивановичу, будто отвечая на безмолвный боярский вопрос.
Так-так. Не иначе как помимо обещания прозондировать почву насчет будущего мужа Ксении Годуновой хитрец Шуйский выжал из хозяина казанской епархии и еще одно – дождаться его приезда в Кострому, чтобы при необходимости помочь со сватовством. А что – весьма похоже, иначе зачем бы митрополит здесь торчал?
Сомнения насчет сватовства у меня были – уж очень неспешно подходил к нему Василий Иванович. В первый день он вообще не обмолвился об этом ни словом, а весь вечер только и делал, что нахваливал ум царевича, его мудрость, его хозяйственность, его предусмотрительность, его… Словом, много чего, собрав в кучу не только все подлинные достоинства престолоблюстителя, но и те, которых Федор отродясь не имел.
Надо сказать, что своей первоначальной цели – расположить к себе Годунова – он успешно достиг. Уже к концу первого вечера царевич оттаял, сменив сдержанную холодность на обычную вежливость. А когда Шуйский в подтверждение своей невиновности несколько раз перекрестился на икону и в довершение к клятве поцеловал у Гермогена его наперсный крест, Годунов и вовсе обмяк, совершенно забыв о моих словах и том примере, который я ему привел. Ну да, одно дело, когда о чем-то рассказывают, и совсем другое, когда наглядно видишь нечто иное. Своим глазам веры куда больше, чем своим ушам.
Меня Шуйский тоже не забыл, напомнив о том эпизоде после отравления, когда мои гвардейцы бесцеремонно завалили его, уткнув мордой в землю и заставив подметать бородой пыль на царском дворе. Однако напоминал он это исключительно для того, чтобы выказать свое христианское всепрощение. Дескать, не держит он на меня зла и, более того, искренне восхищается моей преданностью, а также моим героическим поведением, храбростью, отвагой и прочими достоинствами, коих у меня в изобилии.
Для достоверности он даже оговорился, что поначалу и впрямь была у него на меня некая обидка, но по прошествии времени она улетучилась. А уж когда до боярина дошла весть о том, сколь рьяно князь радел о православной вере, не побоявшись даже божьего суда, и эта легкая досада улетучилась, растаяв словно дым. Да и как можно серчать на столь пригожего молодца, кой… И вновь потекла полноводная река слащавых славословий.
Ну я на комплименты не падок, хотя старательно изображал нечто обратное – смущенно улыбался, а иногда скромно опускал голову, застенчиво водя пальцем по узорам на скатерти. Словом, подыгрывал как мог, и ближе к концу нашего застолья Василий Иванович поверил, что «сделал» меня. Хотя не исключаю и того, что мне это просто показалось – уж больно хитрая лиса этот Шуйский, поди пойми наверняка, что там у него на уме. Во всяком случае, незадолго перед уходом на отдых боярин в подтверждение искренности своих чувств даже полез ко мне целоваться. Я затаил дыхание – очень уж несло от него чесноком вкупе с неприятным запахом от больных зубов – и ответил на его проникновенный поцелуй.
Целовался он в знак примирения и с Федором, вот только царевич при этом выглядел куда более искренним. Учитывая, что Годунов не очень хорошо умеет притворяться, я предположил, что он и впрямь поверил льстивым речам Василия Ивановича. Моя попытка, предпринятая позднее, уже в его опочивальне, предостеречь царевича, еще раз напомнив ему о противоречащих друг другу публичных клятвах боярина, какую-то роль сыграла, но в качестве противовеса лести не годилась – это я понял по пылким возражениям Годунова в ответ на мои аргументы. Ну и ладно, хоть призадумался, и на том спасибо.
Впрочем, касаемо Ксении он был тверд. Стоило мне на всякий случай заикнуться об обещании, которое я дал Дмитрию не только от себя лично, но и от имени престолоблюстителя, как царевич тут же обрушился на меня с упреками.
Дескать, неужто я всерьез подумал, будто он собирается примучить сестру пойти под венец с этой рухлядью? И не будь моего обещания Дмитрию, он все равно нипочем бы не дал добро на ее замужество с этим сморчком. Опять же, судя по сегодняшнему поведению Василия Ивановича, не очень-то похоже, чтобы он приехал свататься – лишь раз за весь вечер осведомился о здравии Ксении Борисовны и больше о ней ни разу не заговаривал.
Признаться, я и сам усомнился в своем предположении, но на следующий день Шуйский, решив, что комплиментов сделано предостаточно, перешел к более активным разговорам. Стоило Федору поутру вежливо осведомиться, каково ему почивалось, как боярин с грустным вздохом заявил:
– Для чего мягко стлать, когда не с кем спать?
Так-так. Кажется, началось. Но далее вновь последовало затишье. Очевидно, боярин взял паузу, решив посмотреть на реакцию царевича. Или я ошибаюсь и эта фраза была простой присказкой? Но дожидаться, пока Шуйский разродится следующей, было недосуг. Сегодня мне надо побывать на ткацко-прядильной мануфактуре, и у гвардейцев, которым предстоял экзамен по владению пращой, и… Словом, некогда мне.