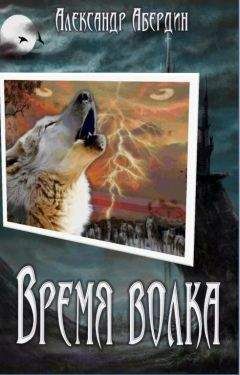— Господь услышал твои молитвы, — заметил он, подстегнув жеребца, и без того зашагавшего оживленней при виде близящегося окончания пути.
Одинокий трактир, столь уместно угодивший навстречу, был точно облеплен белой мукой по всем карнизам и крыше, и назначение его постигалось по пустующей коновязи, отсутствии ограды и вывеске над дверью, где за примерзшим к ней снегом угадывалось изображение кровати, выполненное тремя жирными штрихами, и стоящей на ней кружке.
Нутро небольшого зальчика было охвачено полумглой; мрак озарял подрагивающий огонь светильников, водруженных на столы и стойку, и большое алое пятно света, порожденное полыхающим почти в полную силу очагом. От внезапного тепла, обнявшего со всех сторон, закружилась голова, и уже через два мгновения бросило в жар; Курт торопливо расстегнулся, срываясь с крючков оледеневшими, почти ничего не чувствующими пальцами, и сбросил капюшон на спину, оросив порог снегом. Помощник, на ходу распахивая полы фельдрока, прихрамывая, прошел к ближайшему от очага столу, бросив на пол сумку, и обессиленно уселся, блаженно вытянув ноги.
— Только рискни попенять, — предупредил Бруно тихо, когда он, неспешно приблизясь, отошел к самому дальнему краю скамьи, косясь в очаг с недовольством. — Я промерз до самой печенки и с места не сдвинусь ради потакания твоим фобиям.
— Как нога? — не ответив, справился Курт; тот отмахнулся:
— Побаливает.
— Хорошо, — мстительно усмехнулся он.
На то, как, гремя оружием, новый постоялец усаживается на скамью, владелец придорожного заведения взглянул привычно и равнодушно, и когда, приблизясь, осведомился о желаниях прибывших, в голосе не звучало ни настороженности, ни враждебности, из чего Курт сделал вывод, что на посещаемость тот не жалуется и навидался всякого.
— Комнаты свободные имеются? — уточнил он; владелец махнул рукой к потолку:
— Свободны, господа, почти все. Немного сегодня народу — тракт пустует; кто застрял здесь в непогоду, только те и есть. Изволите снять?
— Одну. И у нас кони снаружи. Хотелось бы, чтоб, собравшись уезжать, мы не обнаружили вместо них ледяные статуи.
— Не тревожьтесь, — улыбнулся тот, кивнув в сторону, где у порога, тщательно заворачиваясь в тяжелую шубу, перетаптывался молодой парень с обветренными покрасневшими щеками. — Мой сын Вольф. Он все устроит в лучшем виде… Меня зовут Альфред Велле, я здесь владелец и за все отвечаю; если же будут жалобы или пожелания касательно трапезы, моя супруга Берта будет рада вам угодить. Имея в виду погоду и ваш крайне утомленный и озябший вид, господа, могу предложить для начала наваристой мясной похлебки — как нарочно для вас, минуту назад снятой с огня.
— Первое пожелание касательно трапезы, — возразил Бруно. — Без мяса. Жареного, вареного — какого угодно и в каком угодно виде.
— Как угодно, — ни на миг не запнувшись, кивнул Велле, и Курт торопливо вскинул руку:
— Меня это не касается, имей это в виду и не забудь или не спутай, не то он со своими обетами оставит меня голодным. Я, пожалуй, от твоего предложения не откажусь. И от мяса тоже — желательно с перцем и желательно покрепче.
— А как насчет, в самом деле, чего покрепче?
— И покрепче тоже, — кивнул Курт, выпрастываясь из рукавов. — Не помешает.
— Занятный мужичок, — определил помощник, глядя вслед удалившемуся владельцу. — И, заметь, его не учили десять лет в академии, не экзаменовали с пристрастием, и он не служил шесть лет следователем, но, тем не менее, типы людские различает сходу. Никаких претензий, косых взглядов и требований заплатить вперед. Он уже точно знает, что мы заплатим, что блюда будем выбирать по желанию, а не по цене, что не станем крушить мебель или резать его ночью, хотя видел нас меньше минуты.
— Наверняка его подкупила твоя постная физиономия. И постные желания. Быть может, он даже узрел нимб над твоей головой.
— Быть может, именно в его сиянии он и не разглядел рогов на твоей.
— Как это недостойно служителя Господнего, — укоряюще вздохнул Курт, бросив фельдрок на скамью подле себя. — Смотри — пожалуюсь отцу Бенедикту на твою гордыню и попрание заповедей, и вылетишь ты обратно в миряне, огребя вящее порицание и пущее осуждение.
— Не надоело? — поинтересовался Бруно с искренним любопытством. — Два года прошло, и по пальцам могу перечесть дни, когда ты не отпускал как правило плоскую остроту в мою сторону.
— Два года и четыре месяца.
— Ты их что же — подсчитываешь?
— Ты принял постриг во вторую годовщину завершения Хамельнского дела, — уже серьезно отозвался Курт, мимовольно скосив взгляд на деревянные четки, перевешенные через свое запястье. — А тот день я до смерти не забуду. Вижу, не забыл и ты; не станешь же ты отрицать, что именно отец Юрген и подвиг тебя принять это решение окончательно?
— Тебе пришло в голову задать этот вопрос только спустя два года?.. — усмехнулся помощник снисходительно. — Отрицать не стану. Ни к чему.
— Было б понятней, если б что-то подобное выкинул я…
— Ты?!. Да у меня случится нервный припадок в день, когда я увижу тебя в рясе.
— Я и тебя в ней не вижу.
— Потому что служба под твоим началом — подвиг более жесткий, нежели любое отшельничество.
— Но если всерьез, Бруно? Тогда — я видел то, чего не увидел ты. Тогда — ты не увидел главного. Так почему?
— Я видел достаточно. И чудо отца Юргена, и все случившееся с нами — не одно лишь это вот так внезапно вбросило меня в монашество. Просто это было последней каплей… А, — отмахнулся тот с напускной легкомысленностью, — тебе все одно не понять. Ты кивнул, принял с благодарностью дар новопрославленного мученика — и пошел по жизни, как ни в чем не бывало; ты хоть раз использовал эти четки по назначению? Разумею — для молитв.
— Ты удивишься.
— Не сомневаюсь… Прекрати коситься на светильник, — сострадающе попросил Бруно. — Он стоит от тебя на вытянутую руку.
— Чуть ближе, — возразил Курт, размяв пальцы, и помощник нахмурился:
— Ты что задумал?
Он не ответил, молча смерив взглядом расстояние до глиняной плошки, глядя на чуть подрагивающий в сквозняке огонек пристально; тот понизил голос:
— Не надо.
— Никто не заметит, — улыбнулся Курт, сдвинув левую руку чуть ближе к светильнику, и, переведя дыхание, рывком распрямил сжатые в кулак пальцы, словно сгоняя присевшую на фитиль бабочку. Огонек склонился в сторону, дрогнул и снова распрямился, продолжив гореть, как прежде.
— Зараза, — выговорил Курт недовольно; помощник покривился, скосившись на него с укором: