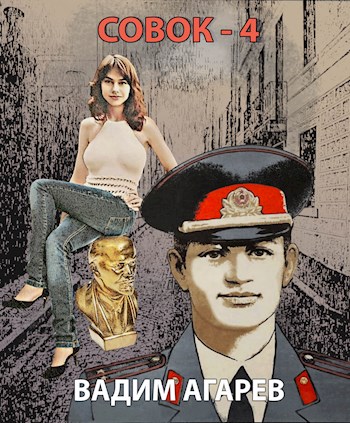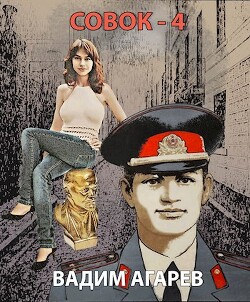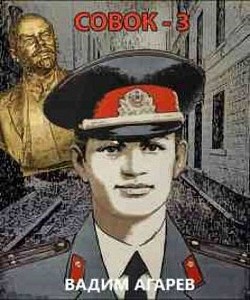понёс информацию о побеге п#здореза в верха.
В трубке повисло растерянное молчание.
— Корнеев, ты мне честно, как есть скажи! Очень тебя прошу! — после долгого молчания и уже без истеричного надрыва осторожно произнес майор, — Арестованный Судаков где? Он, правда, с вами?
— А где ж ему быть, Алексей Константинович! Сидит в собачнике и в наручниках, — насколько смог, изобразил я искреннее недоумение голосом. — А почему вы спрашиваете, что-то случилось? — продолжал я валять ваньку.
— Нормально всё, — теперь уже в несознанку пошёл Данилин, — Вы там смотрите, еще и завтра не опоздайте на самолет! В нашем аэропорту вас встретят. И приглядывайте за Пичкарёвым, что-то нехорошо с ним.
Еще минут пять послушав наставлений руководства, я попрощался и повесил трубку. С Пичкарёвым сейчас мне хотелось обойтись еще жестче, чем с Судаком при задержании. Но делать этого нельзя. Однако и спускать ему состоявшийся сеанс художественного стука тоже не следует. Теперь надо думать еще и над этим. Н-да…
Комендант общежития Астафьева Тамара Васильевна долго не хотела пускать нас в свое общежитие.
— Ну сами подумайте! — чуть не плача, стонала эта добрая к милиции женщина, — Вас троих я хоть на весь семестр заселю, а как я пропущу этого.. — она так и не смогла подобрать подходящего слова для начавшего приходить в себя Судака. — Да еще, тем более, в женское крыло!
И я ее понимал. Судак выглядел страшно. От разбитого лба этого бугая обширная синяя опухоль уже опустилась на и без того не аленделоновскую физиономию. Даже на позднего Де Пардье эта ходячая иллюстрация доктора Ломброзо не тянула. Да и передвигался он исключительно по-крабьи. На каждом шагу вскрикивая и непрерывно подвывая. Все-таки крепкую обувь шьют чехи. Я с уважением посмотрел на носок своего правого ботинка.
— Тамара Васильевна, нам бы только до утра! — стараясь быть убедительным, зашел я на новый виток уговоров, — Этот нехороший человек, он, знаете, злостный алиментщик! Мы его четыре года по всей стране искали и вот наконец поймали! Нам этого мерзавца обязательно до завтрашнего обеда к себе доставить надо, иначе отпустить его придется!
— Как это отпустить?!! — возмущенно всколыхнулась комендант Астафьева, — Таких не отпускать, таких на месте расстреливать надо! Но сначала кастрировать! — решительно добавила она, хищно раздувая ноздри.
Я понял, что нащупал нужную, хоть и очень болезненную струну в душе этой, безусловно, достойной женщины. И продолжил, пользуясь юридической безграмотностью гражданки Астафьевой, дальше вводить ее в заблуждение.
— Закон таков! — лицемерно состряпал я неодобрительно-постное выражение на лице, источая свое полнейшее несогласие с мнимым гуманизмом по отношению к советским алиментщикам. — Местная милиция нам его сбагрила и назад не принимает. И в гостиницу нас с ним не пустят, потому что у него паспорта нет. А больше ночевать нам негде, уважаемая Тамара Васильевна! Так что придется нам его отпустить, все равно завтра срок его ареста заканчивается, — вздохнул я с абсолютно натуральным и даже горестным сожалением, представив ночевку нашего табора где-нибудь на вокзале или в аэропорту.
— Ну я даже не знаю… — по железобетонному монолиту несогласия комендантши прошла первая тонкая трещина, — Мне даже смотреть на него страшно, а свободные комнаты у меня только в женской половине! Ну как я вас с ним туда пущу?!! — едва не плакала Астафьева.
— Тамара Васильевна, дорогая, да вы не волнуйтесь! Он сейчас уже не опасен, мы ему яйца-то уже отбили! — не давая Астафьевой времени на то, чтобы поднять отпавшую нижнюю челюсть поближе к верхней, я, повернувшись к смирно стоявшему у стены Судаку и скомандовал.
— А ну, муфлон, иди сюда! Быстро!
Судак, после показательно-жесткого задержания, в одночасье превратился из беспредельного баклана в примерного подследственного. Было видно, как трудно ему передвигаться, но ослушаться он не посмел и широко раздвинутыми ногами, торопливо, насколько мог, начал маневрировать в нашу сторону. Его опухшая харя выражала крайнюю степень непереносимых физических страданий. Достоверно подтверждавшимися попискивающими стенаниями лишенца и крупными слезами, которые обильно катились по его щекам. Сюра в происходящее добавляли Гриненко с Пичкарёвым. Они стояли с бесстрастными, как у манекенщиц, от усталости и пережитого стресса лицами. Синхронно, как в русском народном танце, они двинулись вместе с Судаком. Наручники в глаза не бросались и потому все трое шли на нас, будто бы взявшись за руки, и бессистемно западая из стороны в сторону.
Узник дефицита совести и сурового советского законодательства в моем лице, успел сделать не более трех-четырех шагов. Комендантша Астафьева, не сумев выдержать столь чудовищного зрелища, сдалась.
— Не надо! Пусть он сядет! — громко вскрикнула хозяйка искусственного общежития.
Повернувшись ко мне, она с содроганием спросила, глядя на меня совсем иными глазами, нежели смотрела прежде. Теперь, прежняя приветливость в её взгляде отсутствовала.
— Как же так, Сергей Егорович, вы же советский милиционер! Вы же не фашист! Ведь вы же его на всю жизнь искалечили! — уже не скрывая своего осуждения и неприятия к моей бесчеловечности, повысила голос Тамара Васильевна.
Вот и пойми этих женщин! А ведь еще минуту назад она с таким же темпераментом и воодушевлением убеждала меня, что многие десятки тысяч советских мужиков надо безжалостно подвергнуть кастрации. Да еще с последующим их расстрелянием. Причем, на месте. И вот такой неожиданный поворот на сто восемьдесят градусов! Век живи и всё время удивляйся на этих женщин! Чтобы не потерять уже достигнутых в наших переговорах позиций, мне надо было как-то технично сдавать назад. Опять надо было импровизировать. И опять сходу.
— Так мы ж не по своей инициативе, уважаемая Тамара Васильевна! — доверительно приглушил я голос, — Что ж мы, звери какие, что ли? Закон такой недавно новый вышел! Секретный закон! Если алиментщик не платит троим и более детям, то надлежит отбивать ему яйца! Напрочь отбивать! — я мужественно и честно смотрел в расширенные от ужаса глаза женщины и был очень убедителен, так как ночевать на вокзале мне не хотелось до кровавого поноса.
И Астафьева, кажется, мне поверила, но смотрела она на меня по-прежнему недобро и даже, я бы сказал, с нарастающим осуждением. Похоже, что я только что положил еще один камень в стену, разделяющую прогрессивное советское человечество и жестокосердных садистов из внутренних органов МВД СССР. Вздохнув, и осознавая всю тяжесть мною содеянного, я продолжил.