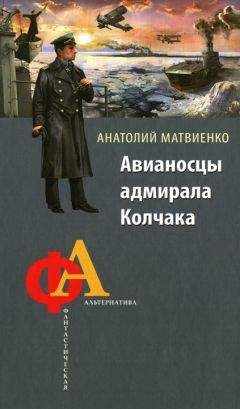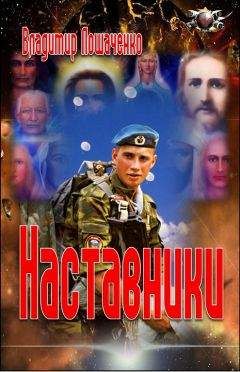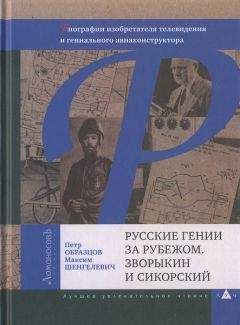Врангель предпочел бы введение военного положения и жесткой диктатуры. Но с нынешним настроением столичных войск он сознавал невозможность такого шага, как и крайне нежелательное усиление правых консерваторов, того же НикНика.
Растянувшая часа на три говорильня кончилась ничем, приглашенные потянулись к выходу.
Колчак попросил обождать фронтового коллегу, сам выдернул Брилинга из кучки левых:
— Николай Романович, лично мы мало знакомы. Однако я наслышан о вас как наиболее здравомыслящем из левых радикалов.
— Спасибо. Чему обязан таким вниманием, ваше высокопревосходительство? — Как обычно, высокие и длинные чины он выговаривал с легкой насмешливостью.
— Сегодняшнее собрание, если считать его попыткой примирить враждующие силы, с треском провалилось. При этом и вам и нам ясно, что Россию ждут изрядные перемены.
— Коренные, — сказал Брилинг, словно гвоздь вбивши.
— Как вам будет угодно назвать. В наших силах, пока не поздно, согласовать действия и образовать коалицию. Пусть перемены пройдут с наименьшей кровью.
Социал-демократ пытливо глянул на военных:
— А кого, собственно, вы представляете, господа?
Колчак на миг смешался, но Врангель решительно вставил свое слово:
— Мы и Брусилов ныне самые популярные люди в армии среди рядовых, офицерства и большей части генералитета. Если армия и флот выпадут из подчинения Императора, они пойдут туда, куда мы укажем.
— Но лозунг «Вся власть Советам!» вы не поддержите.
— Пока что нет, — согласился Колчак. — Россия созрела до всеобщего представительства от земств до Государственной думы, но не готова к полному уничтожению монархии. Поэтому кто-то из Романовых непременно должен остаться хотя бы как легитимный символ.
— Тогда ваш лозунг «Долой самодержавие!». Браво, господа генералы!
— Не ерничайте, Николай, — оборвал его барон. — В первую очередь нужно действенное правительство, которое сможет восстановить подвоз хлеба и топлива, провести реформы. А не кучка скоморохов вроде таракана и психа.
Таракан — тонкоусый премьер, а психом, очевидно, наречен Министр внутренних дел. Брилинг подумал, что в политике Врангелю придется изъясняться более определенно.
— Кто же утвердит состав нового кабинета?
— Если Императору хватит мудрости, то он. В противном случае Николай Александрович очень быстро потеряет власть. — Колчак кивком попрощался с Родзянко, который в шубе и в цилиндре окончательно совпал с буржуйским шаржем. — Однако здесь не место для столь решительных обсуждений. Поговорим позднее.
Идея чрезвычайного правительства витала в воздухе и отнюдь не была изобретением танкового генерала. Ее обсуждали и Дума, и Петросовет, и окружение Александра Михайловича. Так как политика в первую очередь подразумевает стремление к власти играющих в нее людей, то предлагаемые списки правительства оказались весьма разными. Каждый творец очередного перечня министров непременно вписывал на руководящие посты себя и ближайших соратников.
Пока гремели споры о дележе министерских портфелей, продовольственный кризис разрастался, забастовки ширились, укрепляя позиции самых левых и радикальных течений. Помазанник Божий понял наконец, что он загостился в Германии, а в Питере происходят вещи, также достойные высочайшего внимания. Он сел на поезд и двинулся домой, рассуждая — сначала в Царское Село, встретиться с обожаемой Аликс и отдохнуть с дороги, либо сразу в Зимний, к штурвалу. Доехать ему не довелось ни туда, ни сюда.
Спусковой крючок революции дернул Николай Николаевич, вздумавший продемонстрировать военную решимость. Он прибыл на утреннее построение Волынского лейб-гвардейского полка и лично принял над ним командование, приказав раздать солдатам оружие и патроны. Затем сформировал отряды численностью до батальона, поставив во главе офицеров, считаясь не с должностью, а только с монархическими верноподданническими их заявлениями. И батальоны ринулись разгонять уличные выступления.
Погибло не менее сорока солдат, забитых рабочими насмерть. Сколько гвардейцы перестреляли митингующих, сначала выполняя преступный приказ, а потом просто из самообороны, один Бог знает. Возможно — сотни, левые газеты кричали о тысячах.
На следующий день депутат Петросовета унтер Кирпичников подбил солдат к мятежу. Они уничтожили офицеров, ворвались в расположение Преображенского и Литовского гвардейских полков, агитируя за восстание. Через сутки солдатский бунт охватил половину гарнизона. Он не был организованным, скорее бессмысленным и беспощадным, так как даже Петросовет и солдатские Советы не могли толком управлять вылившимся на питерские улицы серошинельным морем.
— Как? Почему? — мотал в воздухе кулаками Александр Михайлович, утрясший наконец с думскими фракциями и Петросоветом состав смешанного «ответственно правительства» и ждавший с минуты на минуту телеграммы о его высочайшем утверждении.
— Потому что нужно прекратить слюнтяйство! — рявкнул НикНик. — Вывести верные части и перестрелять бунтовщиков к дьяволу!
Колчак оторвал взор от беснующейся на набережной толпы, слава богу, хоть не стреляющей пока по дворцовым окнам.
— Нет таких частей, господа. Есть лишь учебные отряды гвардейских полков, по четыреста рабоче-крестьянских рыл на одного старослужащего унтера и десятерых горлопанов из эсеров или эсдеков. Из них половина к присяге не приведена, а оружие есть. Скажем спасибо Господу, что они не все на улице.
— Перестаньте мычать, адмирал. Слушать тошно. Александр, связи с Императором нет, формально ты здесь главный. Пиши приказ на переподчинение мне гарнизона и Кронштадта. Через три дня такой наведу порядок, что… В общем, увидите.
— Это вряд ли, — лениво заметил Врангель. — Каждому ясно по опыту Пруссии, Варшавы и бунту Волынского полка: из вас, Николай Николаич, командир — что из говна пуля.
НикНик затрясся, аж пеной зашелся:
— Вы!.. Вы мне ответите! Сейчас же!
— К вашим услугам. Хоть в соседней комнате. По такому здоровому шкафу не промажу.
Лукавый совершенно не то имел в виду. Оскорбление августейшей персоны — государственное преступление, взывающее о немедленном аресте злоумышленника.
— Господа, немедленно успокойтесь! — повысил голос Александр Михайлович.
— В одном барон прав, — спокойно добавил Колчак. — Князю больше не стоит руководить. Если хотите сохранить хоть часть власти и влияния, его нужно немедленно арестовать и предать суду за расстрел рабочих. И если вам не хватает духу, Ваше Императорское Высочество, мы с бароном охотно поможем.
Врангель шагнул к бьющемуся в припадке и бормочущему проклятия НикНику, вопросительно глянув на второго великого князя. Что дороже — честь фамилии, благо государства?
— Действуйте, господа. — Он уронил голову, стараясь не смотреть в глаза Николаю.
— Ваше оружие, Николай Романов. При неповиновении убью на месте, вы в курсе. — Барон без малейшего почтения отобрал клинок у августейшего генерала и подошел к столу великого князя: — Извольте письменный приказ. А то как поведем его по коридору да сабли наголо, мало ли что дворцовая охрана подумает.
Самый главный Романов к моменту ареста НикНика так и не утвердил манифест об ответственном правительстве по чрезвычайно уважительной причине. Он не получил его на подпись. Царский поезд двигался, телеграммы в том беспорядке, что охватил Россию, приходили на станции, откуда Государь уже убыл. Прожект манифеста и его подписант встретились лишь в Пскове, дальше которого ехать не представилось возможным — пути разобраны.
— Черт знает что такое! Путь разобран, в правительство предлагают господ, абсолютно мне неизвестных, и чай принесли холодный! — возмущался Государь, больше всего сожалеющий, что рядом нет Аликс и не у кого спросить совета. Если не с правительством, то с разогретостью чая она бы точно помогла решить задачу.
Ему было невдомек, что непозволительно революционное правительство, список которого выслал тронувшийся из ума Александр Михайлович, от высочайшего утверждения тут же стало бы недееспособным. И не потому, что кандидаты там неправильные. Наступило время, когда если не весь народ, то две столицы и их окрестности больше не принимали никаких велений от царя.
На заснеженное летное поле близ станции опустился Г-12, из бомбардировщика превращенный в пассажирский самолет. Из него сошли Родзянко, великие князья Петр Николаевич и Михаил Александрович, с ними пара человек свиты. Много народу не влезло, думское олицетворение буржуазии весило как три средних пассажира.
— Положение устрашающее, Государь. Началась революция. Народ и Дума требуют вашего отречения.
Николай Второй поднял усталые глаза. Кто это сказал, Родзянко или кто-то из князей? Не важно. Все трое смотрят выжидательно, стало быть, они согласны с произнесенной нелепицей.