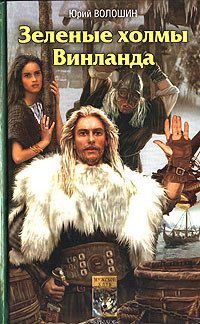Однако почему Чимс заявился ближе к ночи? Как-то сподручней поутру… Или круглосуточную работу решили наладить? Дабы Холм быстрей рос? Ледник ледником, но чем скорее Великий Жрец Солнца упокоится, тем меньше будет… вонять.
Сивел вздохнул, мельком погладил Чулку по щеке и вышел вслед за Чимсом.
Звезды в небе высыпали, мерцают. Иного света не видать. Не похоже на круглосуточную работу. Иначе была бы цепочка огней от факелов. Впотьмах корзины да мешки с землей таскать – это слишком. Во-первых, не уследить, кто из рабов по лености ношу не догружает. Во-вторых, не туда высыплют – Холм нетвердо встанет, кособоко.
Так чего? Куда?
Чимс жестом показал, куда. Совсем и не туда, где Холм насыпался. Ладно, пошли…
Пришли к обители Великого Жреца Огня. То бишь не к нынешней, не к леднику, а к прошлой, к дому на пригорке.
Два меднолицых стража по-прежнему стыли истуканами у дверей, столь же неподвижные, как резные столбы с тотемными чудными зверями и птицами.
Кого им охранять? Великий Жрец Огня теперь не нуждается в охране.
Ах, да! Великая Мать. Она-то здравствует. И – от древних времен у нас главенствует женщина, говорил Сивелу «добрый» жрец Чимс…
Чимс показал жестом приостановившемуся Сивелу: мол, да-да, иди, Гризли, иди туда, дверь открыта, тебя ждут.
Сивел поежился, сделал шаг-другой по ступеням вверх ко входу. Оказался вровень с меднолицыми истуканами. Те не шелохнулись. Он глубоко вдохнул и – как в омут головой. Вошел вовнутрь.
Выдохнул. Оказался в довольно просторной зале, увешанной шкурами и коврами, пучками сушеных трав и амулетами на кожаных шнурках. В центре на полу мигал небольшой костер, обложенный тесаными камнями. Четыре факела, укрепленные в стенах, освещали убранство приемного зала. Вокруг костра – низкие нары, пестрящие шкурами рыси и оленей.
Великая Мать восседала на шкурах. Точнее, возлежала, подперев ладонью подбородок. Одета она была в… Да ни во что она не была одета! Пышная грудь. Крутое бедро. Небольшая складка на животе, не скрывающая черного курчавого треугольника. Легкая усмешка. На скорбящую не похожа, никак не похожа.
Сивел остолбенел. Волнение стеснило грудь. Уши заложило от прилившей к стучащим вискам крови. Но он расслышал:
– Не слишком ли робок бледнолицый? Или попусту его кличут Гризли? Сколь мне известно, Гризли не всегда так робок. И не жалеет семян для той почвы, которая к сроку готова родить плод.
Она вдруг разразилась откровенным хохотом. Сивела передернуло от унижения. Ах, ты ж, Чимс! Подглядывал, что ли? Может, и сейчас подглядывает? Вряд ли, конечно. Великая Мать – не пленница Чулка… Сивел ниже склонил голову, боясь выдать себя неосторожностью взгляда:
– О, Великая Мать! Разве может от тебя укрыться хоть что-то, чего ты не знаешь от Солнца, которое покровительствует тебе!
– Да уж какая я для тебя мать, – провела она языком по губам. – Ну-ну. Подними голову. Сядь рядом. Садись, чего топчешься!
Сивел осторожно присел на край ложа.
– Вот лепешки с медом, вот орехи, – она повела рукой над низеньким столиком у ложа. Тяжелые груди колыхнулись. – Ешь. Попробуй. Это вкусно.
– Н-не х-хочется, – пересохшим горлом хрипнул Сивел.
– А чего тебе тогда хочется? А, Гризли? Скажи – и получишь.
Сивел невольно отстранился.
Вдруг она рысью метнулась к нему, обхватила за шею и приблизила к себе – глаза в глаза, почти вплотную.
– Ты! Гризли! Ты – Гризли, но я тебя не боюсь! Так что ж ты медлишь, Гризли?!
У Сивела напрочь перехватило дыхание. Лицо Великой Матери пылало, ноздри трепетали. Дыхание обдавало жаром – призывным и жгучим.
Свет сам собой померк, костер слегка дымил в красноватых отблесках, наполняя залу пряным ароматом тлеющих трав. Сивел забыл о своих страхах и опасениях, отдаваясь во власть чувствам.
– …Будешь звать меня Лимэту, – сказала она после всего. – И запомни, такой чести удостаивались немногие.
– Буду делать, как ты хочешь, Лимэту.
* * *
Утром, поздним утром возвращался он к Чулке. Нависли тучи, редкие молнии выхватывали очертания деревьев и кустов. Размокшая земля чавкала под ногами. Он с досадой отшвыривал ногой попадавшиеся корзины, брошенные тут и там. Шел не прямо, а какими-то замысловатыми кругами, будто хотел отдалить момент встречи. Промок, продрог.
Со скромной улыбкой встретила его Чулка, протянула сухую одежку – переодеться. Сели у костерка. Чулка подала маисовые лепешки на блюде.
– Не хочу, – сказал Сивел, не грубо, но как бы извиняясь.
Она без слов убрала блюдо. Тоскливо посмотрела на него снизу вверх, движением плеча скинула с себя рубище, обнажив уже весьма налитую грудь.
– Не хочу, – повторил Сивел, так же не грубо, так же извиняясь.
Чулка уткнулась ему носом в подмышку, тихонько хлюпнула носом.
Он бережно обнял ее, погладил по волосам.
И гладил, и гладил. Всякое бывает, Чулка. Всякое бывает, но и проходит. И это пройдет, Чулка…
* * *
И показалось ему, что пройдет. Да уже прошло. Три дня никто не беспокоил их с Чулкой. Сам Сивел старался по возможности носа из своей полуземлянки не высовывать. Так только, по мелочи – до ветру сбегать, дровишек приволочь. Обрел спокойствие души и надеялся, что это продлится и дальше. Но ошибся.
На четвертый день, а вернее, вечер снова пришел Чимс. Глаз был хитрый и поощряющий…
– Думал, я про тебя забыла, Гризли? – спросила Лимэту, едва Сивел переступил порог. – Ничуть не бывало. Просто время не подходило. Три дня красного прилива шли. Понимаешь меня? – Рот искривила усмешка.
Что тут не понять…
Сивел ничего не мог с собой поделать. Она его все же сильно волновала, томление в груди поднялось.
Лимэту указала рукой место подле себя и, когда он сел, сразу же обвила руками, прижимаясь бедрами. Сивел забыл все на свете, а мысль о Чулке даже не шевельнулась в разгоряченной голове.
На сей раз она оседлала его и прыгала на нем, как на диком скакуне. Потом замерла на миг, издала утробный вой и упала ему на грудь, бурно дыша. Потом перекатилась набок, успокоила дыхание. Потом изрекла холодно и равнодушно:
– Ступай. Я про тебя забыла. На сегодня забыла. Явишься завтра.
Сивел взвился. Подскочил на ложе и заорал:
– Ты! Карга старая! Сова лупоглазая, что высматривает себе добычу! Сука жирная!
Сгоряча орал по-русски, начхав на то, что речь его непонятна ей. А впрочем, как скажешь на языке племени Насыпных Холмов все то, что он ей орал?
Великая Мать, она же Лимэту, зашипела змеей, нашарила палку для помешивания углей. Град беспорядочных ударов обрушился на грубияна. Он сначала ловко уклонялся, хихикал зло, намеренно доводя Лимэту до лютого бешенства. Но когда она впала-таки в лютое бешенство и ткнула палкой ему в пах, тут уж не до хихиканья. Сивел охнул, согнулся в пояснице, упал на колени. Град ударов обрушился уже на голову.
Да черт побери! Он извернулся, перехватил ее запястье, вывернул до дикой боли. Великая Мать заверещала зайцем в когтях сокола. Палка брякнула об пол. Он поднял палку и… Как знать, вполне могла в тот момент рука подняться и на женщину. Однако подзадержал взмах – все-таки женщина… И момент был упущен. В залу ворвались стражи, напали со спины, оглушили.
Очнулся Сивел в глубокой и сырой яме. Над головой – тяжелый щит из сплетенных ивовых прутьев. Не допрыгнуть – три человеческих роста.
Первая мысль, как очнулся: «Чулка! С ней что будет?!»
А уж вторая мысль: «Сука жирная, текущая!» – не про Чулку, понятно.
И третья мысль: «Бежать надо. Ой, надо бежать! А то ведь уложат на плашку и… того самого… в жертву принесут».
Третья мысль самая интересная, самая насущная. Вот только как отсюда бежать? Мыслимо ли? Ну, если помыслить изрядно, тогда непременно что-нибудь дельное в голове сварится. Помучиться, конечно, придется долго, но зато и получится… что-нибудь.
И еще раз – если. Если карга старая, сова лупоглазая, сука жирная, оскорбленная хуже некуда, не прихлопнет обидчика сразу же на следующий день. Тогда и помучиться долго не придется.
* * *
А пришлось. Пришлось помучиться. Не прихлопнула его Великая Мать ни в тот же день, ни на следующий, ни через неделю. Месяц без малого Сивел бедствовал в яме. Недоумевал честно, почему до сих пор жив. То есть оно, само собой, и хорошо. Но почему, почему?! Ладно бы Великая Мать уготовила ему смерть медленную голодную, но кормили Сивела обильно. Трижды за день отодвигался тяжелый щит, на веревке ему спускали мясо, лепешки, орехи, бурдюк с питьем. Но наверх его за весь месяц ни разу не подняли. Даже по нужде – что большой, что малой. Вынудили гадить там же в яме. Сказано еще древними: не гадь там, где живешь. Но что же остается? Чтобы не задохнуться от смрада, Сивел ногтями ковырял землю, закапывал собственное верзо. Ногой утрамбовывал. Земля рыхлая – поддавалась легко. Он даже стал подумывать о том, а не нарыть ли сбоку землицы, а с другого бока из той же землицы не соорудить ли ступеней? Не попытаться ли таким манером сбежать?