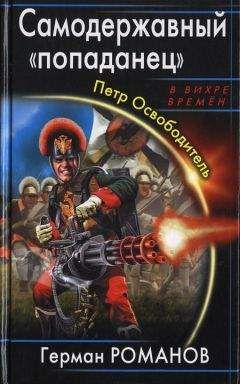— Не успеешь, братец! Зато яко птица в воздусях будешь!
Мозг отстраненно шутил, зато глаза уже поймали третьего тлинкита в прицел. Палец отпустил крючок за мгновение до того, когда индеец, ощерившись, рывком потянул тетиву.
Не дотянул — стрела пошла вкось, а стрелок согнулся, покачавшись, на его груди расплывалось кровавое пятно, и рухнул вниз, вслед за своими незадачливыми соплеменниками.
Орлов облегченно вздохнул — жив остался!
— Ну, тлинкиты! Как они без шума на отвесную скалу вскарабкались?! Ведь невозможно такое представить, а они сумели. Эх, Кузьма, Кузьма, понадеялся зря на меня, а я сам все прошляпил… Тебя убили, а в меня…
Орлов посмотрел на ногу — чуть выше колена торчала стрела, но вот обжигающей боли он почему-то не чувствовал. И только он об этом подумал, как в голове с ослепительной вспышкой взорвалось солнце. Алехан на несколько секунд полностью потерял ориентацию, а когда в глазах стала исчезать муть, вместо нее появилась оскаленная рожа индейца, и в уши ударил дикий вопль, исторгнутый аборигеном.
— А, сучьи дети! — взвыл Орлов, с матами кинувшись на врага. До него дошло, что колоши, пока лучники стреляли, а он не видел, что творится за спиной, вскарабкались по крутой насыпи. И вот этот пес ловко метнул в него каменюку и попал в лоб — хорошо, что не убил.
Индеец не успел встать, только закинул ногу на камень, как тут же получил прикладом по голове. В любой другой ситуации тлинкит бы увернулся, но не сейчас, когда он еще поднимался, а потому полетел вниз по склону, переворачиваясь всем телом на острых камнях.
На осыпи ползли еще двое отчаянных ловкачей, а внизу бесновались с десяток индейцев. В Орлова тут же снова стали стрелять из луков, но гвардеец упал плашмя, скрывшись за привычной защитой. Теперь нападения со спины он не ожидал, а потому все его три пули нашли своих жертв. Он взял винтовку казака — боль раздирала ногу — и, тщательно целясь, перестрелял полдесятка индейцев.
Остальные сразу сообразили, что их ждет, и порскнули в стороны, ища спасение за скалами. Но Алехану уже было не до стрельбы — перед глазами все поплыло, боль неожиданно пропала, и он почувствовал, как его разум начинает проваливаться куда-то в темноту. Последняя мысль лишь на секунду задержала это безостановочное падение, а губы успели прошептать:
— Все! Теперь они сюда залезут! И меня убьют…
ДЕНЬ ПЯТЫЙ
1 июля 1770 года
Гречиничи
Яркий, ослепительный свет ударил по глазам. Зажмурившись, Петр ощутил, как кожу ласкает тепло пригревающего солнышка: его не спутаешь с горячей печкой или с жаром в бане. И, решившись, он открыл глаза.
Тепло, зеленую травушку под ногами он увидел сразу, и кусты, покрытые листвой. Ноги, обутые в черные шнурованные остроносые туфли, стояли на знакомой серой тверди — асфальте.
«Никак в свое время вернулся?!» — мысль сверкнула молнией, и Петр поднял глаза. Перед ним чуть сбоку высился знакомый фасад собора Богоявления, по правую руку белая оштукатуренная стена. Знакомый до боли собор с колокольней. И он машинально сообразил.
— Никак снова в Иркутске?!
Но, чуть повернувшись, осекся, вытаращив глаза от удивления. Нет, это был, несомненно, Иркутск — собор Богоявления, рядом плывущий корабль Спасской церкви, возведенной еще при Петре Первом, голубая гладь Ангары, а напротив устье Иркута со знакомыми очертаниями островов.
Но это был не Иркутск, вернее, не тот город, который он оставил когда-то. Увиденное потрясло Петра.
Где серая громада обкома партии, чем-то смахивающая на недоделанный крест? Исчез и хлебозавод. На берегу не было корпусов чаеразвесочной фабрики, не торчала труба ТЭЦ.
Перед ним раскинулась площадь Кирова, занимавшая и весь сквер, — огромная, оттого казавшаяся бескрайней. Вот только на противоположном краю не стояло желтое здание «Востоксибугля», а высился Казанский собор, точно такой же, каким он видел его по фотографиям.
— Но он же должен стоять вместо обкома! — Петр недоуменно продолжал оглядывать площадь.
Напрочь отсутствовали гостиница «Ангара», здание института иностранных языков, госбанк и недостроенное чудовище, именуемое в народе «домом на ногах». Зато факультетские здания «универа» и «педа» выпячивали знакомые массивные фасады, построенные более века тому назад. И горсовет был, точнее, бывшая городская дума до революции, ибо надстроенный в советское время этаж отсутствовал.
Но главным было то, что стояло в седой древности, — Спасскую церковь опоясывали бревенчатые стены острога с воротной башней, что возвышалась на месте привычного «Вечного огня».
У распахнутых воротин замерли четыре ряженые фигурки — две в алых стрелецких кафтанах с бердышами, а еще двое были одеты казаками времен Ермаковских походов, с окладистыми бородками, в чекменях да с кривыми саблями.
Именно ряженые — вокруг сновали нарядно одетые горожане — женщины в туфлях и разноцветных платьях, дети в майках и шортиках, мужчины в легких рубашках и брюках различного фасона, но знакомых джинсов он не увидел ни у кого.
По площади проносились явно иностранные машины и автобусы, трезвоня сигналами. Огромные туристические автобусы с тонированными стеклами высаживали на площади группы туристов, явно иностранцев, судя по вавилонскому разноголосью, стоявшему над пестрым скопищем, бликующим во все стороны фотоаппаратными вспышками.
— Однако! — только и выдавил из себя Петр любимое слово Кисы Воробьянинова и быстрым шагом, натыкаясь по пути на встречных прохожих, ринулся по набережной, которой не должно было быть — но она имелась. На него оглянулись с недоумением, но останавливать не стали…
— Этого не может быть! — прошептал Петр. Час беглого шага по набережной, облицованной камнем, оставил неизгладимое впечатление. Здания советской эпохи, включая «Интурист», отсутствовали, зато высились привычные деревянные и каменные дома в два-три этажа, старые, дореволюционные и оттого незнакомые.
Но некоторые сооружения он опознал — курбатовские бани, здание планетария, которое снова стало церковью, мост через Ангару. На той стороне реки вытянулось здание вокзала с куполом, да по Глазковской горе стояли старинные дома. Зато дальше высились небоскребы и широкие эстакады — примерно от политеха и покуда глаза могли уловить. Но плотины ГЭС не имелось — Петр был готов в этом поклясться.
Зато здесь, на берегу у острова Юность, стоял «Белый дом». Напротив здание музея, да на берегу памятник покорителям Сибири — там вместо шпиля, прозванного в народе «мечтой импотента», стояла фигура императора, как на старых фотографиях. По Карла Маркса можно было разглядеть драмтеатр Охлопкова — и все, на этом старое знакомство заканчивалось, и начинались полные непонятки.
Вместо стадиона «Труд» высились старинные корпуса и везде транспаранты — «Дашковскому университету 200 лет. 1776–1976». Именно надписи произвели на Петра неизгладимое впечатление.
— Так это Иркутск будущего? Причем не моего!
Петр помотал головой, как лошадь, отгоняющая слепней. На месте монумента «Борцам революции» стоял памятник — в кресле сидела женщина, державшая на коленях книгу, а за ней стоял мужчина, положив руку ей на плечо.
Рядом с памятником замерла группа туристов, которым что-то объяснял молодой экскурсовод. И Петр пошел к ним, надеясь хоть как-то разобраться в том, что произошло с Иркутском.
— Видите, господа, княгиня смотрит на памятник императору Петру, которого она боготворила. В ее кабинете есть портрет Петра Федоровича, вы его увидите. Он был написан в Иркутске, когда его величество посетил наш город. Именно император рисовал эскизы зданий, сделал нынешнюю планировку города, а чета Дашковых претворила в жизнь его начертания… — экскурсовод остановился и провел рукою. — И вот, ровно сто лет назад, в вековой юбилей университета, профессура и студенты собрали деньги на этот памятник. На нем, как вы видите, взгляд княгини направлен на монумент императору, который был поставлен десятилетием раньше. Хоть так исполнилась заветная мечта княгини — быть рядом вместе с Петром Федоровичем и любимым мужем!
Петр чуть не присел от услышанного и в полном смятении отошел. В растерянности он посмотрел на лоток, на котором были расставлены книги, и застыл, услышав за спиной легкие шаги.
«Я знаю, кто сейчас подойдет!»
Константинополь
Три собеседника в турецких халатах и фесках сидели, скрестив ноги, на ковре, что был расстелен на шканцах линейного корабля. Утренний кофе для османов дело святое, медный кувшинчик исходил паром, дастархан украшали блюдца с восточными сладостями — шербетом, халвой и прочими, неизвестными европейцам, но только не собравшимся этим ранним утром собеседникам, что вели разговор между собой на чистом английском языке, украсившем бы любое парламентское заседание. Иногда между ними явственно проскальзывали нотки и лондонского кокни.