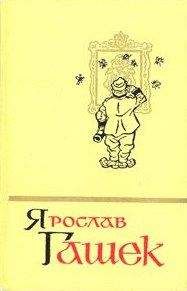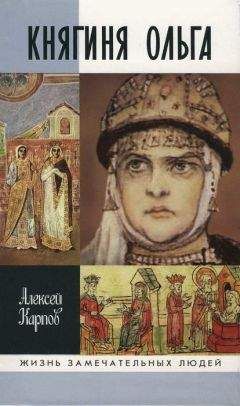— Государь! Бояре, запершиеся в детинце, мира просят! — докладывал вестовой из штурмового батальона.
— Что с князем?
— Погиб! Вместях со своими дружинниками нас хотел на копьё вздеть, да не вышло! — гордо, чуть выпятив грудь, ответил вестовой.
— Онуфрий Собеславич! — позвал я маячившего поблизости волынского боярина. — Возьми свой отряд и скачи в детинец. Сообщи им, что никаких условий я от них не приемлю! Если подчинятся воли своего государя — то останутся целы и здоровы, с имуществом и головой на плечах. Вздумают со мной торговаться или далее запираться — лишатся всего! Так и передай!
— Будет исполнено, государь! — склонил голову в почтительном поклоне боярин, пряча в бороде ехидную ухмылку. Запершимся боярам он «по — секрету» скажет, кому они на самом деле всем обязаны, ведь это именно он убедил грозного Смоленского государя проявить к затворникам милость и сурово их не карать. Всё равно, проверить его слова ни у кого из них духу не хватит.
«Серпентарий ещё тот — волынское боярство!» — подумал я, глядя на быстро удаляющийся отряд боярина. А оставшиеся в лагере волынские, холмские, брестские вельможи, с плохо скрываемой завистью, провожали недобрыми взглядами своего более удачливого коллегу.
Глава 12
На следующий день после взятия Владимира-Волынского, бывшие столичные жители могли наблюдать невиданные ими прежде шатры, разбросанные по всему городу. Их установили на главных городских площадях, дополнительно опоясав по периметру кольями. В этих шатрах разместились пехотинцы смоленского князя, видать боярских подворий на все введённые в город войска не хватало.
На главной Вечевой площади города ещё вчера, сразу после принесения городом присяги, был скинут вечевой колокол, а уже сегодня, с утра, посреди площади был разбит большой шатёр, а рядом с ним сбили деревянный настил и засыпали его песком. Здесь, как во всеуслышание объявили глашатаи, должно состояться судилище над волынскими боярами — переветчиками.
Ближе к обеду горожане, робкими стайками, стали стекаться к Вечевой площади, при этом сохраняя дистанцию от шатров и снующих около них людей. К главному шатру постоянно подъезжали на конях смоленские всадники, пробегали пехотинцы в блестящих на солнце шлемах, изредка появлялись там и волыняне из числа бояр, купцов, сотских.
Лицом к площади установили балдахин с богатой парчовой драпировкой. Вскоре из шатра, в сопровождении охраны и воевод вышел смоленский государь, и уселся на поставленный под балдахином золочённый столец. Балдахинная драпировка защищала смоленского властителя от солнца, которое в этот день светило особенно ярко. И она же бросала тень на хмурое лицо Владимира Изяславича, подчёркивая особенный, холодный блеск серых глаз, сурово смотревших из — под ниспадающих на лоб прядей тёмно — русых волос. По бокам от него, во всём чёрном, стояли пешими конные телохранители вооружённые бердышами. Воеводы полукругом стояли на самом краешке тени падающей от натянутого балдахина.
Тут громко протрубили трубы, и глаза смоленского государя глянули на полуразрушенную церковь и её пристройки, превращённые огненным боем в пепелище. В церковном портале показалось какое — то движение однородной сплошной массы. Это были люди. В середине потока виднелись волосатые и бородатые головы, а по бокам — вооружённые пехотинцы в жёлтых надоспешниках с чёрными крестами, буквами и прочими непонятными символами на полях.
Людская колонна приближалась всё ближе и ближе, наконец, стало видно, что это ведут, по четыре в ряд, людей. У них были связаны не только руки, но и ноги, отчего конвоируемые перемещались «гусиным шагом». Вот толпа подалась в стороны, отпрянув от этой колонны заключённых, словно от чумной. Теперь собравшимся на площади волынянам стали хорошо видны не только измученные лица узников, но и следы их былого великолепия — остатки богатого одеяния, ныне исполосованного кнутами тряпья, выпачканного грязью и засохшей кровью.
Из — под натянутого тента, наслаждаясь отбрасываемой им густой, прохладной тенью, я внимательно наблюдал за потянувшейся из церкви вереницей людей. Это хорошо постаралась разведка, целые сутки выявляя в ходе допросов с пристрастием из сонм волынских бояр явных предателей и просто агентов влияния европейских держав. Нам с этими товарищами дальше было совсем не по пути. В отличие от тех же местных, квасных ура — патриотов искренне борющихся за интересы своей лимитрофной Родины или тех же Романовичей. По крайней мере, интересы и любовь этих патриотов, при разумной политике, можно попытаться масштабировать, конвертируя уже в рамки всей Смоленской Руси. Но проделать аналогичные преобразования с «гейропейцами» — почти наверняка будет дохлый номер! Просто есть такая категория людей, которая априори считает, что у соседа дом больше, жена красивей, хрен толще — подобные персонажи неизлечимы. «Еврофилы» переносят фокус своей «филии» — любви, своего завистливого внимания с условного соседа на иностранцев, по их скудоумному мнению сказочно богатых, свободных и счастливых, в отличие от их самих бедных, несчастных, прям замученных ненавистным режимом горемычных бедолаг. Подобный кретинизм мозга практически не излечивается! Оставлять в живых подобных кадров я не собирался, пятая колонна в приграничном регионе мне была совсем ни к чему. Впрочем, ярых, фанатичных и самое главное активных, погрязших в крови, поклонников князей Романовичей оставлять в живых тоже не было никакого резона. Этот регион для нас слишком важен и без пролития крови «сакральных жертв» здесь никак не обойтись. По крайней мере, на первых порах, только уважение и страх могут помочь на корню зарубить бунты против Смоленска. А любовь … любовь народная — дело наживное, тому примером Иван Грозный, Пётр, Сталин и иже с ними.
А меж тем, собравшийся на площади народ видел, как колонна узников вплотную приблизилась к государеву балдахину. От стражников отделился какой — то командир и, не доходя нескольких шагов до балдахина остановился, приставил ладонь к голове и громко обратился к смоленскому государю, почти прокричал:
— Государь! Волынские предатели, числом восемнадцать человек готовы предстать перед твоим правосудием! Докладывает ротный Щуков.
— Всем им воздастся по заслугам! — громко и отчётливо, с явной угрозой в голосе проговорил Владимир Изяславич. — Давай познакомим честной люд с этими предателями! Подводи их сюда, ротный, по — одному.
Ротный повторил приказ стоящим по близости ратникам и те от общей верёвки освободили первого узника, подведя его под руки прямо к государеву балдахину и продолжающему там стоять комроты. В этом человеке, с опухшим лицом, исполосованном плетью с трудом можно было узнать видного волынского вельможу. Он стоял с опущенными в землю глазами.
— Кто это? — смоленский властитель ткнул жезлом, указывая на подведённого к нему подсудимого.
— Ответствуй государю! — зло ощерился ротный на волынянина, а затем что — то угрожающее зашептал тому в ухо.
— Я Хотен Ипатович.
— Какое преступление ты совершил? Какие Уголовные статьи «НРП» нарушил? — громко вопрошал ротный.
— Статьи по предательству, государственной измене, сговору с целью свержения государственной власти, убийству двух и более людей, — повторил явно заученный текст боярин.
Сумрачное лицо Владимира задумчиво, с холодно — жгучим взглядом, словно какую — нибудь мерзкую букашку, рассматривало подсудимого.
— Теперь расскажи нам своими словами, что именно ты совершил? — не унимался настырный ротный.
— Предался я, перешёл в латынянство! Волынь хотел подвести под руку ляхов. Побуждал князя Василька воевать, дабы ослабить его войско, для того, чтобы оно потом не могло дать отпор ляхам и уграм.
— Повтори по-громче народу слова этого преступника, — распорядился государь, обратившись к стоящему неподалёку человеку. Это оказался политработник, который тут же перетолмачил сказанные боярином слова в свой железный раструб, да так громко, что его услышала вся площадь.