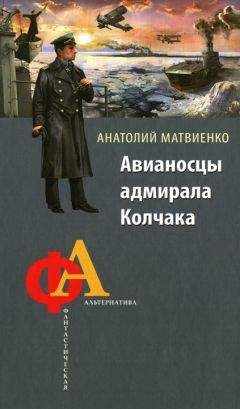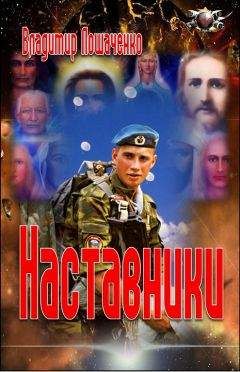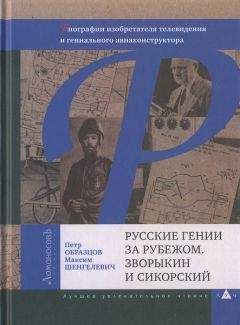— Спасибо, Яков. Через два часа приду, обсудим подробности.
— Федор! Ни слова не говорите Троцкому. Он для американцев — свой.
Стук сапог затих за поворотом грязного тюремного коридора.
— Яша, ты серьезно?
— Все слышал, Прош?
— Не отвечай вопросом на вопрос, жидовская мор… прости меня, славный революционный товарищ. Лучше скажи — правда веришь в успех?
Свердлов откинулся, прислонив голову к облупленной стене. В Питере он предпочитал черное кожаное одеяние — сапоги, бриджи, куртку и кепку. Мешковатая солдатская шинель смотрелась на нем как маскировка, как овечья шкура на хищнике.
— Балтийцы отчаянные, у них может выгореть.
— А мы? Вряд ли кто доберется до эсминца.
— Наверно. А что ты предлагаешь? Уйти в леса и присоединиться к уголовникам? Прислуживать американцам? Или голодать. Зимой тут до людоедства доходит.
— Да, не курорт. Но давай смотреть правде в глаза. — Прош Прошьян пристроил «трехлинейку» между колен и обнял ее, как женщину. — Яша-джан, к утру мы умрем. Не так страшно помирать… Но ради чего?
Свердлов снял стекла в облезлой оправе и тщательно протер их.
— Хотелось, конечно, другого. Идеалов, светлого будущего, а не сентябрьской сырости и пули осенней ночью. Но анархисты угонят корабль, в крайнем случае взорвут. Российскому флоту немного легче.
— Стало быть, из-за России? То есть все наши мучения, революция, ссылка на Сахалин — просто из-за страны, где мы даже не коренной нации.
— Да, Прош. И не нужно причитать. Никто не гнал нас взашей с насиженных мест. Я остался бы аптекарем в Нижнем Новгороде, продавая касторку и пиявки. Ты юрист? Покорял бы красноречием присяжных заседателей и уездных барышень. Но нам не хватило такой жизни. Размечтались, чтобы эта чертова огромная страна и ее бестолковый народ жили чуть лучше.
— Знаешь, Яков, среди левых я не чувствовал себя чужим, инородцем. Вот уж где социалистический интернационал. Поляки, латыши, грузины и русских немного есть. Слова «армян» или «жид» перестали быть бранными, даже особенными, просто названия наций, которые не имеют значения. А Россия — одна на всех.
— Она такая. Если бы мы уехали в Европу или Америку, то навсегда остались там просто армянином и евреем. Вот Троцкий — он из-за океана вернулся еще больше жидом, чем я его до эмиграции помнил. Россия переплавляет. Не только в ленивую пьяную массу, к которой относят всех здесь живущих. Мы с тобой в России тоже другие.
— Русская ленивая пьяная масса, о которой ты только что говорил, этого не оценит. Но я с тобой, Яша. Давай подумаем, куда остальных расставим.
Туповатая покорность капитана Стародорогина и его офицеров, а также угодливость Лейбы Троцкого, на хорошем английском рассказывавшего о верности американцам ссыльно-политического батальона, притупили бдительность заокеанских гостей. Поэтому малая русская революция в конце этой ночи стала для них крайне нежданной.
Начальником караула у ряда шлюпок стоял капрал Джон Томпсон, чернокожий здоровяк из южных Штатов с неизменной туповатой улыбкой на широком добродушном лице. На испанской войне, где довелось выслужиться в капралы, он и убивал так — с улыбкой и по-доброму, не терзая ни других, ни себя. Поэтому, когда услышал топот множества ног, не всполошился, а нехотя обернулся. И столкнулся взглядом с коротышем, бежавшим к нему с трехлинейной винтовкой наперевес.
Запишись Троцкий в число нападавших на охрану, он не удивился бы негру — в США он даже привык к ним. Но для Свердлова лицо, в ночном полумраке цвета ваксы и с блестящей полоской зубов, показалось дьявольским. Он на полсекунды промедлил, позволив капралу выдернуть «кольт» из кобуры.
Трехгранный штык вонзился прямо в ухмылку по самый дульный срез, ствол выбил передние зубы капрала. Последним судорожным движением тот нажал на спуск. От выстрела всполошился пулеметчик, над которым завис Прошьян. Со смачным хрустом и выкриком «На-а-а!» армянин насадил его на острие и приколол к земле, как заморскую бабочку. Потом выдернул винтовку, щелкнул затвором и навел ее на выбегающие из ближайшего барака полуодетые фигуры. Расстреляв единственную обойму, эсер ухватился за пулемет. Пальба на берегу отвлекла от шлюпок, в темноте обогнувших мол.
— Быстрее! Ради бога, быстрее!
— Сами бы сели на весла, ваше благородие, — огрызнулся Дыбенко, и без того налегавший на рукоять, словно за шлюпкой гнался черт. Первая лодка уже ткнулась в трапик, из нее на борт шмыгнули фигуры в солдатских шинелях, растекаясь по палубе, постам и кубрику. Только вместо «ура» эти солдаты негромко крикнули: «Полундра!»
Отдельные щелчки выстрелов на берегу превратились в грохот перестрелки, главную ноту которому задал пулемет «Люис», подхваченный Прошьяном. Поэтому вряд ли кто обратил внимание на лязг якорных цепей и плеск тел, падающих за борт.
— Железняк! У тебя зрение лучше. Хоть одна лодка плывет к нам?
Матрос долго всматривался в ночную темень, разрываемую вспышками с берега.
— Нет, Федор Федорович. И пальба стихает.
Раскольников снял фуражку:
— Земля вам пухом, товарищи. Давайте малый вперед.
Наутро генерал МакГоверн лично осмотрел место бойни возле береговой полосы, где солдаты в нелепых шинелях валялись вперемешку с американцами.
— Я решительно отказываюсь их понимать, Олбрайт. Какого черта?
— Русские, сэр. Здешние земля и климат делают их душевнобольными.
Майор показал на одного из них, который и в смерти не выпустил винтовку. Даже очки не потерял. Русский лежал рядом с капралом Томпсоном, а трехгранный штык на две ладони вышел из затылка чернокожего.
— Их ненависть переходит границы здравого смысла, — заключил генерал. Тут взгляд его упал на другого русского из политических изгоев, тоже в шинели, круглых очках и с бородкой, который визгливо втолковывал флотскому офицеру, что ничего не знал о коварном замысле товарищей и оттого не предупредил. — Верить им нельзя. Повесить мерзавца.
МакГоверн не стал переносить время отплытия, несмотря на переполох от бесследного исчезновения одного из эсминцев. Конвой направился к проливу Лаперуза, обогнул мыс Крильон и углубился в Татарский пролив, к утру следующего дня напоровшись на отряд крейсеров.
Адмирал выдал сочное ругательство. Они не могли добраться сюда из Владивостока, предупрежденные беглецами на угнанном эсминце. Значит, подобострастный капитан Стародорогин — тоже предатель, раз сообщил…
Генерал куснул кулак до крови. У Владивостока силы были неравны, поэтому русские ограничились расстрелом с дистанции и нападением на транспорты. Но сейчас минус два линкора, крейсеров всего три, эсминцы. Размышления командующего прервал тревожный голос вахтенного офицера:
— «Теннеси» атакован подводной лодкой, сэр. Принимает воду!
— Гот дэмед!
Главный и морской начальники встретились взглядами. МакГоверн горестно кивнул.
— Передать по конвою! Поворот на юг!
Цепочка кораблей легла на курс к Оминато.
Майор Олбрайт, по непонятному капризу генерала оставленный за главного на Корсаковском посту, проклял и каприз, и генерала, и русских, и день, когда появился на свет. Через полтора месяца доели последнюю лошадь. Полтораста человек погибло от набегов каторжан, не менее половины больны, все искусаны гнусом, от которого нет спасения.
Мутная команда капитана Стародорогина тоже страдала, но как-то меньше. И еду, видать, они спрятали. С ужасом глядя на странных русских, лейтенант О'Нилл признался командиру:
— Я знаю, почему они до сих пор не убили нас, сэр. Берегут на зиму как мясо.
При всей нелепости этого предположения Олбрайт не стал сбрасывать его со счетов.
Однажды, несмотря на снег и изрядный ветер, над Корсаковым пролетел самолет с русскими трехцветными кругами. Майор вздрогнул. Аэродромов поблизости нет. Значит, аэроплан поднялся с авианосца, этого бесовского воплощения их технической мощи в этой войне.
Через день корабли из Владивостока забрали с поста русский батальон. Олбрайт готов был не то что в плен сдаться — на колени пасть, лишь бы их тоже убрали отсюда.
— Не имею распоряжений, сэр, — ответил русский капитан. — Прикажу переправить на берег съестные припасы, патронов отсыплю и доложу начальству. Счастливо оставаться!
Как ни смешно, американский гарнизон на Сахалине разыгрывался как козырная карта на Парижских мирных переговорах. Милюков, помня наставление Клемансо о том, что американцы примут только победоносное окончание войны, признал их успех в оккупации юга Сахалина. Потом добавил, попросив не вносить это в протокол:
— Вы бы забрали их побыстрее. Сейчас там сурово, мы больше не можем снабжать ваших парней едой, топливом и патронами. Пропадут за зиму, бедолаги.