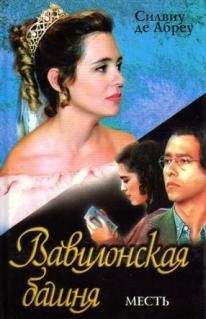— Я вас запишу в соавторы. Всех, — обещает Камински с зевком. — Но вообще хорошо, что вы пришли. Я хотела извиниться…
— Это можно и утром, — улыбается Левинсон.
— Болван. Извините. Не перебивайте меня, а то я никогда извиняться не закончу. Скажите мне, господин Левинсон, вы за Шварцем ничего странного не замечали?
— Когда мы познакомились всерьез, мы уже все были очень странными. Странного-для-Шварца? Мне показалось очень странным, что он так долго оставался в университете и ничего никому не сказал. Шантаж — не мотив. Недоверие — не мотив. Тот Вальтер Шварц, которого я знал хорошо, рано или поздно плюнул бы и учинил кабак до небес… с удивительно небольшим количеством жертв в процессе. И до правды тоже докопался бы — или заставил ее проявиться. А навыков он, как видите, не растерял. Вот это. Он ведь что-то делал, что-то готовил — ту же Янду, но все это вполруки, не вкладываясь. А потом приехала Анаит.
— Вашу Анаит надо было к кубинским компаньерос загнать одну, вместо ССО. Или перед Советом поставить. И вообще в зоны локальных конфликтов посылать, на страх всем сторонам… Слушайте, а ее-то кто активировал? Или в ее Комитете по надзору сплошь здоровые люди работают? Кстати, я теперь все понимаю с Клубом, Сообществом и вообще… — Камински усмехается.
— На Кубе, возможно, так и было, если это кстати. Появился раздражитель — и одновременно убрали стабилизатор. Случайно совпало. А вот странность вторая. Я ее тоже осознал уже потом. Шварц ни разу не спросил меня о том, чем я занимался. О той самой статистике.
— Он знал?
— Должен был знать много. Его студенты меня регулярно обвешивали жучками и маячками как новогоднюю елку яблоками. Я своих пристраивал искать все это добро, оценки им повышал. Но всегда оставлял парочку на развод. Это была такая игра. Для меня. Я думал, что и для него. Но он так ничего и не сказал.
Женщина морщится, закусывает губу — словно ей ухо продуло и теперь периодически «стреляет». Встряхивает головой.
— Нет, это мы так до утра будем. Я вообще не про то. Знаете фокус, как посмотреть на свои пальцы как на чужие? — Она показывает, не дожидаясь ответа: прижать четыре пальца к основанию большого и выкрутить кулак внутрь до предела, опустив руку вниз. Действительно, полная иллюзия, что эти четыре пальца — сломанный ноготь, сорванный заусенец, старый рубец, свежая ссадина, — принадлежат кому-то еще. — Посмотрите так на Шварца. Что получится?
Это он уже сделал. Несколько часов назад. Когда вспомнил считалку. Милые люди вокруг него не совсем правильно оценили природу шока.
— Личный враг. Идейный тоже, но главным образом — личный. И не только мой. И я бы сказал — безумец, но что-то мне мешает. «Одержимый» — почти точное слово. Не хватает детали. Винтика.
— Насколько я могу судить, он… нормален. Собран, целеустремлен и доволен, — говорит Максим. — Без дребезга, даже без фальши. Наигранного очень много, но это роль, а не самообман.
— Да-а ну-у? — тянет с дивана Сфорца. — Как низко я пал… уже в нормальных людей хочу безосновательно стрелять.
— Что же помешало? — живо интересуется Грин. Интерес у него исследовательский. Вопрос, видимо, чисто рабочий. Желания господина Сфорца играют роль индикатора?
До разговора наедине великий корпорант казался манерным и капризным типом со склонностью к неуместному эпатажу. Этакий постаревший мальчик из ночного клуба. Оказалось, ничего подобного. Очень теплый, деликатный и внимательный собеседник. Самое странное — пока они не договорили, никто не приближался и даже не смотрел в их сторону. Конус тишины, мелкое бытовое колдовство.
Боль за время беседы утекла. Остался сквозняк внутри, но уже переносимый. «Послушайте, — сказал капризный тип, щурясь и морщась, словно Левинсон светил ему прожектором в глаза. — Ну вы же умеете думать. Вы с утра поговорили с этой девушкой, поняли, что на ходу нельзя, да? В чем вы виноваты? В отсутствии провидческого дара? Вы же нормальный человек, вы не могли ее просто запереть, потому что стукнуло? Тем более и не стукнуло, да? Тащить неведомо во что — тем более. Скверно вышло, но обвинить вас захочет только манипулятор, зачем же поддаваться?..»
Левинсону было слегка неловко, но разговор, словно массаж, позволял спазму разойтись. Самому потребовалось бы больше сил и времени.
— Что помешало? Ну представьте, если я. Его. После его доклада. У вас дома. И скажу — очень хотелось, да?
— Да, вас могли бы неправильно понять. — кажется, Грин так шутит. — Но до сих пор все, кого вы застрелили или порывались застрелить, весьма активно хотели убить вас… только вы не всегда это осознавали. Приходится заключить, что вы считаете, что господин Шварц желает зла вам — или кому-то из ваших близких. Тех близких, кого вы не отделяете от себя. Список невелик.
— Что за месяц такой, — жалуется Сфорца, — все меня… постигают и вербализируют. Но в общем — верно, а право убивать Антонио принадлежит моей сестре. Особенно после сегодняшних… откровений. И вообще противный он какой-то, этот Шварц. Кимвал циклопического размера. Что на трибуне, что здесь. Говорит, говорит… а толку?
Сильно. Весь зал Совета, весь самолет и как бы не половина планеты слушали, раскрыв рты, а господину Сфорца, видите ли, было скучно.
— Да, — кивает Максим. — Вежливо выражаясь, бряцает — а не имеет.
— Как первый Доктор Моро? — вкрадчиво интересуется мистер иезуит.
— Именно.
И тут все замирают и некоторое время смотрят друг на друга.
— Но он же не «какой-то левый педофил», — цитирует кого-то ошеломленный Щербина. — Он настоящий Шварц… только ненастоящий.
— Скажите, Максим, — самое время спросить. — а гнев он тогда испытывал? Когда выступал?
— Нет… изображал, зато море удовольствия — как он сейчас нас красиво приложит… — Начинает усмехаться и останавливается на полпути. Знакомое чувство, да?
— Псевдоманьяк. — говорит Камински. — Даже не копировщик.
— Какая пакость, — вздыхает Сфорца. — Вот это все. Иск от имени. С головой. Живой укор миру. Сам убил, сам укоряет. И, Боже — если бы это было настоящее, да? Нет, спектакль! Мерзость, ненавижу…
— Не знаю, — задумчиво говорит Грин, — радоваться ли, что вы не испортили мне ковер. Или огорчаться.
— Меня еще может на него стошнить, — обещает Сфорца. — Официальный розыск объявляем?
Неофициальный, понятное дело, начнется через минуту или две. Уже начался. Слежка — еще раньше.
— Он уже в розыске после стрельбы в университете, — напоминает Левинсон. — И если он поведает подоплеку, репутация университета пострадает всерьез, да и вашему родственнику достанется. — И самому Левинсону тоже, но… за все приходится платить. Рано или поздно. Это было несколько смешно — он всегда меньше всех боялся провала. Даже до несчастного случая на производстве, а уж после… До позавчерашнего дня. Может быть, Шварц и не трус. Может быть, он — умный и предусмотрительный человек, который понимал, что голого не разденешь, а железяке не отомстишь. Сначала ее нужно оживить. Ну спасибо ему, в любом случае. За это. — Он будет держать это тухлое яйцо над нами, пока ему нужно. А потом с удовольствием уронит, — заключает Левинсон. — Так что я бы, прежде чем начинать скачки, нашел способ уронить его сам.
— Я тут подумал, — говорит Щербина, и глаза у него шальные, «новгородским духом тянет», что называется.
— Редкий случай… — смеется Камински.
— Да, и мне понравилось, и я подумал еще. Сначала об этой ерунде с сюжетом, а потом о девочке Ане. Мы тут работаем, а она там отдыхает.
— И что вы предлагаете?
— Она там не одна отдыхает, она там с Одуванчиком отдыхает и в прошлый раз они вот так же вдвоем раскопали автора идеи. Сериала этого вашего, — поясняет он, — «Мстителей». Только он не совсем автор, ему Лехтинен эту мысль подкинула. В виде армейской байки. Видимо, крепила ряды обороны: «И обвинения ваши абсурдные, из модного телесериала взяты.» Так вот я предлагаю им позвонить и пусть крутят линию дальше. Пусть рыбу сделают, с остальным отдел по связям и сам справится.
— Она тебе скажет…
— Но потом обрадуется. — Думает, явно сомневается, добавлять ли. Решается. — Я бы обрадовался. Нет, не так. Если бы я проснулся и подумал, что никому больше не нужен. Вы же не хотите ее списать?..
Кажется, за это тоже следует быть благодарным Шварцу. Знакомься, Дьердь, вот тебе обратная сторона твоего меньшего зла. Дети, которые боятся быть ненужными больше, чем смерти. Оно, конечно, тоже проходит. Лет за десять.
— Убедил. Звони.
* * *
Анна проснулась рано, еще было темно — и легко, без будильника и самоуговоров. Вчера — нет, сегодня, часа три назад, — ей скинули задание. В исключительно неподходящий момент, впрочем, там все моменты были неподходящими. Особенно разговоры из тех, которые можно вести, только накрывшись простыней с головой. Чтобы никто не слышал. О себе.