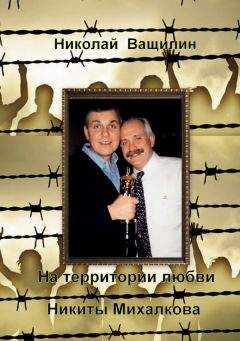— Признаешь, что прятались в том доме? — спросил он.
— Мы не прятались, а укрывались. А это разные понятия. В траншее тоже укрываются от обстрела. Понимаете, о чем я, гражданин следователь?
— А то как же, — кивнул Самохин. — Мы ж коллеги как-никак. Оба понимаем значение тех или иных терминов для следствия и судебного разбирательства. Но только вы там именно прятались. Как раз в то время, когда шел бой. В траншеях действительно укрываются. Так их и отрывают для целого подразделения, а вы отсиживались в этой квартире, вовсе не похожей на траншею.
— Мы вели оттуда огонь по опозерам. Или вы, гражданин следователь, не знаете, что в условиях городского боя солдаты часто укрываются в разных строениях? Это нормально. Почему этот факт вы ставите нам в вину?
— Потому что с трусами только так и надо, — жестко парировал Самохин. — У вас, у трусов, на все есть объяснение и причина, почему вы поступили именно так, а не иначе. Кто докажет, что вы вели огонь, а не спрятались где-нибудь в ванной или в туалете, чтобы ненароком шальной пулей или осколком не убило? Кто подтвердит, что вы не собирались перейти на сторону Объединенной Оппозиции? — Старший лейтенант навалился грудью на стол, пожирая глазами допрашиваемого. — А что? Вы ж штрафники. Смертники, можно сказать, чего уж там, все всё понимают. Шансов на выживание практически никаких. Так почему бы не переметнуться к врагам? А тут такая накладка вышла — наши опять в наступление перешли. Пришлось выходить. Прострелить себе что-нибудь не пробовали? Госпиталь, амнистия…
— Все. Больше ничего говорить не буду, — глухо ответил Чечелев.
— Мне больше и не надо, — хмыкнул Самохин. — Автограф на протоколе поставь. Вот здесь напиши — мною прочитано, с моих слов записано верно.
Алексей подписал, где указали.
Следователь нажал кнопку обычного дверного звонка, укрепленного под крышкой стола.
В дверях немедленно возник конвойный.
— Увести, — приказал старший лейтенант. — И давай сюда Гусева.
У дверей Леха оглянулся, задержался на миг и сказал:
— Знаешь, че, старлей, не жалею я, что не доучился на юриста. Не дай бог стал бы таким мудаком, как ты.
Самохин, прищурившись, с полуулыбкой больше напоминающей оскал, смотрел на Чечелева и молчал.
Тот отвернулся и вышел в коридор.
Когда Гусев вернулся в камеру, Чечелев спросил:
— Подписал?
Павел молчал, понурившись, сидя на шконке. Затем выдавил нехотя:
— Подписал.
— Я тоже, — ответил Алексей.
— Понимаешь, Леха, мы свои смертные приговоры подписали.
— Думаешь, изменилось бы что-то, откажись мы подписывать? Ты что, первый раз эту комедию видишь? Ну, допустим, отказались — и что? Волокиты чуть больше, только и всего. Отмудохают, как следует, да не один раз, и показания выбьют. Все равно подписали бы. Так какой смысл доводить до этого, если уже все предрешено? Хоть я и недоучка, но говорю тебе точно: здесь нарушаются все мыслимые нормы Уголовно-процессуального кодекса. В мирное время самый паршивый адвокат сумел бы нас отмазать. Но сейчас война, и наши подписи или отказ от них никакой роли не играют. Нас все равно расстреляют.
Гусев тяжело вздохнул и сказал:
— Обидно. Умирать всегда страшно, ты не хуже меня это знаешь. Сколько мы под этой смертью ходили. Но чтобы вот так, от своих… Ведь ни за что, абсолютно ни за что… Обидно…
— Может, пронесет еще? — с робкой надеждой спросил Чечелев.
Гусев невесело хмыкнул:
— Может быть. Странный ты какой-то, Леха. То уверенно заявляешь о нашем расстреле, то надеешься на чудо, которого точно не произойдет. Такое только в кино бывает да в книгах. А мы попали. И попали всерьез.
— Знаешь, командир, наверное, для тебя это неубедительно прозвучит, но немного преодолеть страх мне помогает вера в Бога. Я верю, что с земной смертью моя жизнь не закончится. Просто она перейдет в другую форму. Я покину это тело без сожалений. Как будто оставлю старую одежду…
— Это наши-то тела старые? — перебил его Гусев.
— Ты не понял. Это сравнение. Старикам смерть не менее страшна, чем молодым.
— А что дальше-то? Ну, покинешь ты свое тело. А потом?
— Потом и узнаю. Я верю, что уже не первый раз живу в этом мире. Мне, нынешнему, не дано знать, в какой ипостаси я уже жил ранее, и в этом заключается одна из сторон непостижимости и величия божественного.
Гусев катал желваки, слушая Чечелева. Ему, отрекшемуся от Бога, было не то, чтобы неприятно это слышать, совсем нет. Он чувствовал свою вину за отречение и желал получить прощение. Но простит ли его Бог за сказанное? Хоть Он и милосерден, но если от Него отворачиваются, то кого видят? Дьявола?
— Что-то слабо верится, — сказал Павел и тяжело вздохнул.
— Не хочешь — не верь. Дело твое, — тоже вздохнул Леха.
Лютый приник к уху Студента и зашептал:
— Леха, только не обижайся. Ты тут весь такой правильный, просветленный, можно сказать, а ведь скальпы снимал.
— Сатана настолько сильно удерживает всех нас, что любого, желающего освободиться от его хватки, он подвергает еще большим страданиям и ввергает в пучину греха.
— Так это Сатана тебя надоумил скальпы снимать? — опять прошептал Гусев в ухо товарищу.
— Да пошел ты! — возмутился Леха.
— Не психуй, — спокойно ответил Гусев. — Лучше дальше рассказывай. Мне на самом деле интересно.
— Будешь подкалывать, не стану рассказывать, — предупредил Алексей.
— Не буду. Обещаю.
Чечелев начал рассказывать дальше.
Постепенно к ним подтянулись другие сидельцы, устроившись на лавках за длинным столом. А кто-то продолжал лежать на шконках, слушая со своих мест.
Внезапно загремел замок.
В камере мгновенно повисла тишина.
Дверь со скрипом распахнулась. Опять тот же прямоугольник света, и лежащая на нем зловещая тень.
Раздался властный голос:
— Рубцов, Деревянко! На выход!
За Гусевым и Чечелевым приходили еще несколько раз. Их водили все к тому же следователю, знакомили с какими-то документами, они что-то подписывали. Таким образом, скорое следствие закончилось, о чем Самохин и объявил штрафникам, сообщив, что передает дело в суд.
В очередной раз пришли утром.
Их привели в какой-то кабинет на первом этаже, уцелевшем более-менее от обстрелов. В кабинете уже находились трое мужчин в черных судейских мантиях.
Процесс оказался недолгим и формальным. Приговор вынесли тут же, не удаляясь в комнату для совещаний.
Расстрел.
Как их привели в камеру, толком не помнили ни Павел, ни Алексей, настолько подействовала на них неотвратимость предстоящего.
В камере их встретили испуганно-любопытные взгляды. Но как только они увидели лица вошедших — сразу попрятались. Любопытным все стало ясно.
Никто не лез к парням с утешением, так как понимали: глупее этого ничего не придумать. Какое может быть утешение для приговоренных?
А парни так и сидели рядышком на шконке.
Через долгое время гробового молчания Гусев произнес:
— Вот и все…
Никто ему не ответил. Здесь каждый жил своими проблемами и страхами.
За ними пришли ближе к полудню этого же дня.
Прозвучала жесткая и требовательная команда:
— Чечелев, Гусев! На выход!
И Павел, и Алексей не могли найти сил встать. Ноги враз стали ватными.
— На выход, я сказал!
Преодолевая внезапное недомогание, парни, поддерживая друг друга, пошли к дверям.
В коридоре стоял все тот же прапорщик. Он все также привычно расписался в бумагах, поданных молодым лейтенантом в портупее с кобурой.
Солдаты наручниками сковали парням руки, заведя их назад.
Затем под командой лейтенанта повели штрафников из подвала на первый этаж. Этой же дорогой их водили на допрос и в суд, отчего у парней появилась безумная надежда — а вдруг?! А вдруг это еще не конец?! Вдруг приговор отменили?!
Эту робкую надежду уничтожила резкая команда спуститься по лестничному маршу, ведущему в другую часть подвала.
Парни замерли у лестницы. Идти туда не хотелось. Но их прикладами погнали вниз.
В глухом, недлинном — метров десять всего — коридоре на потолке тускло светила пара лампочек: в начале и в конце.
Подталкиваемые прикладами, штрафники шли по этой слепой бетонной кишке, каждой частицей испуганных тел ожидая выстрелов в затылки. Когда они прошли большую часть пути, то в конце увидели очертания деревянных створок.
Это несколько напоминало подсобку какого-нибудь магазина или склада, когда с улицы подъезжает машина, створки распахиваются, а грузчики начинают принимать товар.
Здесь «товар», судя по всему, только выдавали.
А может быть, эти створки вели в рай или ад. Как знать? Об этом могли сказать те, кого вынесли через них. Но они уже никогда ничего не скажут…