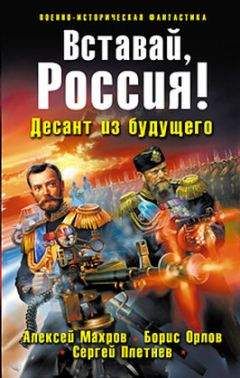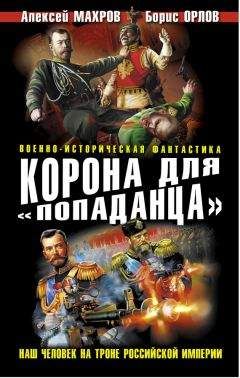Пронзительно гремят фанфары, и на Марсово поле в сопровождении лейб-конвоя и «ближнего круга» выезжает императорская чета. То есть мы с Мореттой-Татьяной. В открытых белоснежных «Жигулях».
Сначала я собирался принимать «парад» на своем любимом изабелловом жеребце, получившем за доброту и кротость нрава звучное имя Маньяк. Но в последний момент отказался от этой идеи: укротить его с помощью шпор, хлыста и ненормативной лексики я могу, но на окружающих это обычно производит гнетущее впечатление…
Иногда я задумываюсь: от всей ли души подарили мне этого непарнокопытного убивца московские купцы или все-таки преследуя некие, неизвестные мне темные цели? Прежде чем я обуздал это строптивое, обладающее исключительно высоким самомнением и на редкость подлым характером существо, мне пришлось проверить песок манежа на мягкость всеми частями моего бренного тела. Все дело в том, что поначалу, вдохновленный воспоминаниями об учении дедушки Дурова и Александра свет Невзорова, я пытался действовать исключительно лаской и уговорами. Вершиной этого метода воспитания стала попытка Маньяка упасть на землю и перекатиться с боку на бок, причем я, как он полагал, останусь в седле. По крайней мере, в начале этого маневра. Не знаю, что бы со мной было, не успей я высвободить ноги из стремян и отскочить в сторону, но после этого я плюнул на весь свой невеликий запас гуманизма и любви к животным, послал куда подальше Дурова с его уголком и Невзорова с его гиппофилией, а Маньяк тут же свел близкое, длительное и крайне неприятное для него знакомство с хлыстом, которое он запомнил навсегда. С тех пор у нас с ним установился вооруженный нейтралитет, по условиям которого он, в общем, терпит меня на спине, а я раз в день осчастливливаю его горбушкой с солью и воздерживаюсь от применения шпор и хлыста. Но, тем не менее, я не гарантирован от его хитрых и подлых фортелей. А ну как ему придет в голову побаловаться при всем честном народе?..
Моретта сидит на заднем сиденье, а я стою рядом с водителем — унтер-офицером из состава лейб-гвардии бронекавалерийского полка. Вместе мы объезжаем колонны пленников. Иногда я чуть трогаю водителя за плечо, «Жигули» останавливаются, и я пристально вглядываюсь в кого-нибудь. Это оказывает на всю колонну шоковое воздействие: многие опускают головы еще ниже, некоторые норовят опуститься на колени. Рано еще, рано, по сценарию другое задумано…
Наконец объезд завершен. Автомобиль останавливается у невысокой трибунки, на которой в картинном, тщательно спланированном беспорядке стоят мои ближние. Отдельной группкой рядом стоят свежепроизведенные молодые подпоручики, из числа уцелевших после юнкерско-кадетского восстания «павлонов», николаевцев и михайловцев. Чуть в сторонке — все тридцать семь выживших кадетов. В офицеры они не произведены — это уже было бы слишком, но на груди у каждого неброско поблескивает Георгиевский крестик.
Сзади раздается мощный рев двигателя. Это подъехал на еще одном «медведе» Димыч. Ему удалось уговорить меня использовать броневик в качестве трибуны. Я упирался как мог, но он, зараза такая, сумел перетянуть на свою сторону почти все мое окружение. Видите ли, броневик символизирует мощь оружия и автопрома! Когда эту белиберду повторяли, словно ученые попугаи, Ренненкампф, Шелихов, Гревс и Духовский — я еще держался, но когда Татьяна со своим милым акцентом заявила мне: «Если ты будешь говорить с броневика, милый, то это будет символизировать мощь нашего оружия и нашей промышленности», — я сдался. Хотя меня до сих пор не покидает ощущение, что плевать Димычу на автопром, а вот над историей похихикать хотелось…
На башню «медведя» залезать крайне неудобно, и я поначалу хотел ограничиться капотом. Но хитрый Димыч внес в конструкцию некоторые усовершенствования, заключавшиеся в приваривании к борту стальной лесенки, а на крышу башни прочных поручней. Накануне я два часа репетировал «восхождение», стремясь добиться, чтобы это выходило быстро, но не создавало впечатление спешки. И вроде бы мне это удалось. Тренировки не прошли даром — я пулей взлетаю на броневик и величественно выпрямляюсь. Ну, с богом…
— Что, доигрались?
Я произношу это негромко, но все молчат, так что слышно в самом дальнем уголке.
— А я ведь к вам обращаюсь, — пристальный взгляд в сторону русской части пленников. — Ладно эти, островитяне, они приказ выполняли, но вы… Э-эх! (Энергичный взмах рукой.) Видеть вас не могу — противно. Убирайтесь на все четыре стороны. И чтоб духу вашего в России не было. Сейчас же на поезда, до границы и взашей, к… (долгая пауза).
В колоннах шевеление. Такого пленники не ожидали. В самом деле не ожидали. Прогнать из России, в никуда? А здесь семьи, дома, Родина…
Внезапно, по единому порыву, колонны русских с воем рушатся на колени. Несколько «пленных» офицеров, посчитавших, что дворянам и офицерам на колени бухаться невместно, попытались остаться стоять. Но оказавшиеся рядом солдатики моментально опускают их «ниже плинтуса» и приводят в общее, коленопреклоненное состояние. Не самыми джентльменскими способами. Шум такой, что я просто молчу. Проходит минута, другая…
Постепенно из этого человечьего воя начинает ясно выделяться:
— Батюшка, смилуйся! Отец родной, прости, пощади! Бес попутал!
Я молчу с неприступным видом. Так, дальше у нас по сценарию…
На парад-плац выходит священник. В толпе по краю Марсова поля шепот: «Иоанн, протоиерей Иоанн!»[95] Он подходит ко мне, низко кланяется:
— Прости их, великий государь! Не ведали заблудшие, что творят. Не лишай их родины. Я, монах недостойный, молю тебя за них. Будь милосерден. А они, всем сердцем раскаявшись, отслужат тебе твою милость. В том и присягнуть могу. — Он поднимает вверх крест, а потом опускается передо мной на колени.
— Поднимитесь, святой отец. И не просите за них больше. Я-то их, может быть, и простил бы, да Родина предателей не простит!
Словно в подтверждение своих слов я оглядываюсь на свою свиту. Ренненкампф деловито разглаживает усы, Гревс застыл изваянием, Волкобой что-то тихо шепчет Долгорукову. Татьяна нервничает. Она понимает русский уже достаточно и сейчас искренне сочувствует пленным. Ведь ни я, ни Васильчиков не предупредили ее о сценарии…
Неожиданно из толпы народа выскакивает и мчится к нам невысокая крестьянская девушка в простенькой, но чистой одежде, со сбившимся назад платком и развевающейся косой. Она подбегает к «Жигулям» и бросается на колени перед Мореттой:
— Матушка, заступница, помилуй! Попроси государя помиловать их, — она всхлипывает и заливается слезами. — Брат у меня там… Глупый он… обманули его…