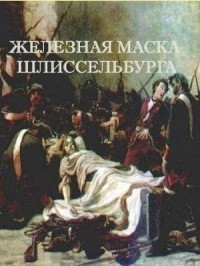— Молоко… за какую вредность? А что такое журнал? Из форштадта молоко каждое утро на лодке привозят…
— Не надо мне молока, — отрезал Иван Антонович — не хватало еще кишечно-желудочное заболевание получить от здешних буренок, или, как минимум расстройство желудка с постоянной диареей:
— Летом его лучше не пить, целее будешь. Надо одеваться — дела не ждут, — после слов Маша захлопотала, приняла его обряжать в свежее белье, затем в роскошную одежду, расшитую золотыми галунами.
— Это кто такое мне пошил?
— То княжна Софья Семеновна новый мундир своего мужа под вас перешила и еще один в форштадте приказала вам спешно пошить — но там, сказала мастера дурные, — Маша чуть сглотнула. Иван Антонович понял, что такие фразы супруги Римского-Корсакова ее обидели — ведь она смогла пошить для него одежду из гораздо худшего материала и украшений. И он ласково провел по ее теплой щеке пальцами:
— Свой мундир береги — он для меня самый лучший в мире! Это драгоценная память моего узничества! А сейчас целуй меня крепко — надо идти, работа не ждет, век не переделать…
Глава 16
— Ваше императорское величество! Срочные депеши из Петербурга, от Василия Ивановича, — граф Панин был хмурым, на лбу собрались морщины — этот сибарит и лентяй, любитель того, что жители Апеннин называют «дольчефанниенте», то есть «приятное ничегонеделание», старался, по мере возможности, не предаваться дурному настроению. Но сейчас Никита Иванович выглядел ужасно — мешки под красными воспаленными глазами, дрожащие руки, бледное лицо.
— Пришли с интервалом в четверть часа — второй гонец настиг первого посланца уже под Ригой, хотя выехал из Петербурга на два часа позже. Государыня, простите меня великодушно, новости очень скверные — примите мои искренние соболезнования…
В груди екнуло, защемило сердце, и Екатерине Алексеевне потребовалась вся сила воли, чтобы стянуть лицо в невозмутимую маску. Придворные уже покинули комнату, где ей расчесывали волосы — любимая процедура каждого утра. Императрица развернула лист — после первых прочитанных строчек буквы неожиданно стали расплываться в глазах.
«Вчера 4-го дня после полудня в пятом часу подпоручик Мирович с командой Смоленского полка, в сговоре с поручиком Чекиным из охраны «секретного каземата» Шлиссельбургской цитадели, вероломно напали и перебили верных вашему величеству караульных «каменного мешка», освободили из него «безымянного узника». О судьбе капитана Власьева из Тайной экспедиции вестей не имею — видимо, был убит вместе со своими солдатами, выполняя свой долг.
Мятежники захватили крепость — комендант оной майор Ивашка Бередников оказался в заговоре, как и полковник Алексашка Римский-Корсаков в форштадте. Находящийся под его начальством Смоленский полк восстал и присоединился к мятежникам, вовлекая в возмущение сотни солдат и драгун, что находились на работах, ведомых на канале. Все эти злодеи присягают бывшему «безымянному узнику» как императору и самодержцу Всероссийскому Иоанну Антоновичу, третьему этого имени. Известно, что манифесты о том направлены в города Новгородской губернии, и дальше в Москву, для вовлечения в мятеж других полков нашей армии».
— Майн готт…
Екатерина Алексеевна опустила письмо — рука внезапно ослабела. Живое, но вместе с тем расчетливое воображение, показало картину мятежа во всей красе, и его возможных последствий в самое ближайшее будущее — она оказалась устрашающей.
— Чем меня дальше Василий Иванович «обрадует», — негромко произнесла женщина, боль в сердце резко усилилась — императрица прекрасно понимала, почему Панин отводил глаза, а Суворов так многоречив, что на старого генерала совершенно не походило — давняя служба по «тайным делам» вытравливала из души многое, что любому человеку не чуждо. А потому можно было не жалеть ни собеседника, ни, тем более подследственных. Да и она сама не раз отзывалась о генерале — «Суворов мне очень предан и в высокой степени неподкупен; он без труда понимает, когда возникает какое-нибудь важное дело в тайной канцелярии; я бы желала доверяться только ему, но должна держать в узде его суровость, чтобы она не перешла границ, которые я себе предписала».
Екатерина Алексеевна снова подняла письмо дрожащей рукою и стала вчитываться в строчки, уже отстраненно, словно видела кошмарный сон и не могла никак проснуться.
«Вчера вечером я виделся со светлейшим князем Григорием Григорьевичем, что прибыл по вашему именному повелению. Взяв эскадрон конногвардейцев, шефом которых он является, а также команду измайловцев, он на двух галерах со своими двумя братьями, отправился в Шлиссельбург. Полчаса тому назад одна из галер вернулась в Петербург, с нее сошли два десятка оных гвардейцев, а корабль направился в Кронштадт. Из них в Тайную экспедицию немедленно пришло восемь рядовых полка Конной гвардии, и поведали охотно и без принуждения следующее:
В два часа ночи сегодня 5-го числа, оные галеры подошли к Шлиссельбургу и высадили гвардионцев. Однако приступ был отбит сильным пушечным и ружейным огнем, от которого погиб светлейший князь Григорий Орлов, а его младший брат граф Федор Орлов тяжело ранен — попал в плен и унесен в цитадель. Погибло три десятка преданных вам чинов Конной гвардии, оставшиеся попали в плен, и почти все присягнули на верность Иоанну Антоновичу. Моряки и измайловские солдаты изменили вашему величеству купно и оружно, перейдя на сторону «безымянного узника». Из них ни один не пришел ко мне с докладом о событиях. Граф Алексей Григорьевич Орлов кинулся в воды Невы, где, по всей видимости, и утоп. Он был ранен пулею в плечо, и серьезно, но сдаваться не пожелал.
Вестей из Кронштадта, куда ушла галера «Саламандра» с мятежным на борту экипажем не имею, но отправил за оной в погоню две скампавеи и яхту — надеюсь, данное судно мы изловим, и безжалостно покараем за свершенную измену. Всецело преданный слуга вашему императорскому величеству, генерал-аншеф, сенатор и кавалер Василий Суворов».
Екатерина Алексеевна отложила письмо в сторону, перед глазами поплыло. Граф Панин протянул ей белоснежный платок — она стала им утирать глаза, оставляя на ткани мокрые пятна. Чуть кивнула:
— Благодарю, Никита Иванович…
Она не могла ответить себе на вопрос — любила ли она покойного Григория Григорьевича Орлова?
До переворота 1762 года, несомненно увлечена, раз родила от него еще одного сына. Но позже более благодарна ему за поддержку в тех событиях, пылкой любви в ее сердце к мужчинам, как пятнадцать лет тому назад, уже не было. Все они не только дарили ей чувственное наслаждение — они в ее глазах были той поддержкой и надежной опорой на пути к заветной цели — самой править огромной державой и всем владеть.
Но кроме искреннего горя, Екатерина Алексеевна сейчас уловила непривычные для себя нотки облегчения — в последнее время «любимый Гришенька» ее стал изрядно раздражать. И хуже того, сенаторы и генералы, входящие в ее ближний круг, стали настойчиво советовать отодвинуть братьев Орловых, и тем паче ради собственного царствования оставить мысли о замужестве. Ибо служить «мадам Орловой» из русской знати никто не станет. Так что хотя и очень страшно потерять трех надежных и энергичных людей, но лучше бы их гибель случилась после подавления злосчастного мятежа. В том она не сомневалась, вспомнив облик и манеры злосчастного Иоанна Антоновича во время тайной беседы с ним, при которой был и граф Шувалов — глупое лицо, пустые глаза, капли пота на лбу, несвязанная и громкая речь, спутанные русые волосы.
— Подайте мне второе письмо, граф!
Екатерина Алексеевна взяла себя в руки — минутная слабость прошла. Теперь Фике была готова драться за власть разъяренной львицей. Она столько к ней шла, испытала такие трудности, угрозу заточения в монастырь и даже убийства, чтобы отдать ее вот так просто тому, кто все это время только жрал яства у себя в подземелье, и тихо сходил с ума от безделья. Больше она не допустит ошибок, и не станет столь милосердной к изменникам.