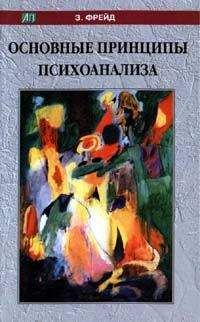— Человек на то и человек, чтоб побеждать в себе бегущее от огня животное, — сказала Саша. — Ставить идею выше собственной жизни.
— Даже если отдельные люди в некоторые моменты на это и способны, строить планы на допущении, будто бы такое поведение станет универсальным правилом — чудовищная ошибка. Которая могла бы сделаться непоправимой, если б вы победили в этой войне. Потому что люди остались бы животными, и в результате революционных потрясений к власти прорвались бы самые жестокие из них.
— Щербатов, не опускайтесь до спекуляций, — сказала Саша, срывая цветок кровохлебки для середины букета. — Раз уж вы не можете привести достойных примеров из практики, давайте обратимся к теории. Не кажется ли вам, что представление, будто власть основана на одном лишь принуждении, чересчур примитивно?
— Вы недооцениваете потенциал принуждения. Принуждение отнюдь не всегда предполагает непосредственное насилие. Уже у низших животных есть механизмы демонстрации силы, позволяющие выстраивать иерархию. Иерархическая структура группы обеспечивает ей высокую эффективность. При этом ущерб отдельным особям сводится к минимуму. Люди способны довести эту систему до совершенства, охватив ею все аспекты социальной, экономической и культурной жизни.
Саша рассеянно заправила за ухо прядь и только теперь заметила, что ее волосы распущены. В обычной жизни вне спальни или бани это было, конечно же, недопустимо. Как случилось, что она, хотя бы и в своем воображении, вышла на прогулку в таком виде?
Конечно же, поняла Саша, такой Щербатов ее видит. Но почему она такая, какой он ее видит? Это ведь ее сон.
— Вы упускаете нечто важное, — сказала Саша. — Власть — это больше, чем возможность причинять либо не причинять боль. Власть может осуществляться как создание и поддержание такого пространства дискуссии, в котором одни темы обсуждаются постоянно, а другие — никогда, будто их нет. Вам ведь превосходно известно, что на войне всегда есть и герои, и подлецы, и невинные жертвы; на любой стороне, в любых обстоятельствах. Фокус здесь в том, чтоб показать героев и жертв с одной стороны, а с другой — только подлецов. Страдания одних людей становятся символом и взывают к отмщению, а другие люди и их страдания делаются невидимыми и таким образом не признаются существующими.
— Ваш месмеризм способен и на это?
Саша пожала плечами.
— Не думаю, что бедняга Месмер предвидел такое применение его салонных фокусов… Но принципы здесь те же. Ты должен быть глубоко убежден в своем праве внушать другим определенную позицию.
— До чего же досадно, что вы не со мной, Саша, — сказал Щербатов. — Как бы вы теперь пригодились мне… Прежде я полагал, что вижу вас во снах оттого, что сентиментально к вам привязан, но, по существу, беседую с самим собой. Вернее, с созданной моим воображением персонификацией революции. Однако вы в Рязани обмолвились, что тоже видите сны, связанные со мной. Это ведь больше, чем какая-нибудь чувствительная романтическая чепуха, не правда ли? Напрасно я не расспросил вас подробнее, у меня же были тогда все средства к тому. Впрочем, ясно и так. Это действительно вы, и, следовательно, вы живы. Что ж, виновные будут найдены и понесут ответственность. А вас снова станут разыскивать. Не доводить начатое до завершения не в моих правилах.
Саша мельком пожалела Вершинина — этот пройдоха был ей симпатичен. И подумала, что если вспомнит этот разговор наяву, перепугается до смерти. Наяву она постоянно чего-то боялась. Действительно, как животное. А здесь — здесь не было страшно.
Саша перебирала цветы в букете, добиваясь того, чтоб композиция стала совершенной: анис по краям, в центре обрамленная багульником кровохлебка. Поправила последний цветок, полюбовалась результатом и выкинула букет в поле, где и собрала. Улыбнулась.
— Ну раз уж вы назначили меня персонификацией революции, значит, я не умру никогда. А вы?
***
— Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, — сказала Аглая.
Она только вернулась из разведки — грязная, промокшая, злая.
Князев так и оставался в коме.
— Ты ведь о матери своей говоришь, — растерялась Саша. — И она жива еще.
— Они все для меня мертвы. Весь их фальшивый мир для меня мертв.
Саша промолчала и отвернулась.
— Ты что это, комиссар, — взвилась Аглая, — осуждаешь меня за отказ от дезертирства, что ли?
— Я этого не сказала.
— Ну конечно, ты не сказала. Ты просто кислую мину состроила.
Они сидели на тех же бревнах, сваленных возле штабной избы.
— Слушай, оставь меня в покое, а? Я тебе рассказала про твою семью, как должна была. Закончим на этом. Час до полкового митинга, на котором решится все. Мне надо сосредоточиться.
— Нет, ты погоди, — Аглая поднялась на ноги. — Ты ведешь себя странно, комиссар. Ты же не бежала из плена, тебя привезли к порогу нашего штаба. И теперь ты говоришь мне вещи, которые должны сделать меня слабее. Что ты рассказывала другим командирам? Ты все еще мой комиссар?
Аглая положила руку на кобуру.
— От кого угодно ожидала этого, но только не от тебя… Да ты представляешь, от чего я отказалась? За то, чтоб я предала вас, мне предлагали власть, силу, будущее… будущее с человеком, который снится мне. А я выбрала мучительную смерть.
— Это твои слова. А факты таковы: они почему-то пощадили тебя. Много наших они щадят? Ты с одними белыми командирами вступила в сговор, с другим — переспала. Ты меня осуждаешь за половую распущенность, но то, что сделала ты! Зачем ты здесь на самом деле? Как я могу тебе доверять теперь? Ты знаешь в лицо всех, кто уйдет сегодня в лес. Почему я должна оставлять тебя в живых?
— Знаешь что, — ответила ей Саша, — я здесь не затем, чтоб оставаться в живых. Меня вчера чуть не порешили, просто так, на кураже. Теперь ты. Да черт с вами со всеми! Хочешь — стреляй, и закончим с этим. Полку нужен мертвый комиссар, чтоб сдаться — сделай эту работу. Если Князев проснется — пускай проснется в тюрьме.
Аглая опустила голову. Принялся накрапывать мелкий холодный дождь.
— У нас нет другого комиссара, — продолжила Саша. — И нет другого командира. И другого полка. Мы все наломали дров. Мы все не такие, какими нужны революции. Но теперь, в этой точке, мы — все, что у нас есть. Мы верим друг другу и пытаемся сделать все, что в наших силах. Или давай закончим уже эту историю.
— Что ты будешь говорить на митинге? — спросила Аглая. Она сняла руку с кобуры и снова села рядом со своим комиссаром.
— Попытаюсь напомнить им о свободе, за которую мы воюем. О праве быть субъектами исторического процесса, от которого отказываться нельзя. Другими словами, конечно… Прежде обещание земли и мира было нашим главным оружием, а теперь оно стало оружием наших врагов. Они, конечно, лгут, они поведут Россию к нищете, рабству и новым войнам — но пока мне этого не доказать. Единственное, что мы обещаем, а они нет — свобода.
— А если это не сработает?
— Тогда меня убьют, и ты сбережешь пулю.
— Ты думаешь, у меня нет сердца? Насчет моей матери… Думаешь, мне не плевать? Думаешь, я не хочу проститься с ней? Пока мы воевали, у многих наших ребят болели и умирали близкие. Им легко было оставаться на службе? Но вот почему-то даже лучшие из нас начинают иногда вести себя так, будто чувства аристократов какие-то особенные. Будто раз человек чистенький, образованный, красиво живет среди дорогих вещей — с ним надо считаться больше, чем с теми, у кого всего этого нет. Я просто такая же, как любой солдат здесь. Никакого особого отношения.
— Я знаю, что у тебя есть сердце, дорогая моя, я знаю.
— И надежда у нас есть. Моя команда разведала маршрут, по которому полк сможет отступить. Это рискованно, и раненых вывезти будет тяжело… Но леса не пусты. В леса уже ушли отказавшиеся сдаваться красноармейцы — как одиночки, так и целые подразделения. В партизаны бегут люди, хлебнувшие горя при Новом порядке. Мужики, бабы, дети — все готовы встать под ружье. Их с каждым днем будет больше. Вспыхивают восстания. Люди уже распробовали свободу, они не захотят снова становиться скотом. Красную армию можно будет собрать из осколков. Война продолжится — с участием пятьдесят первого полка или без него.