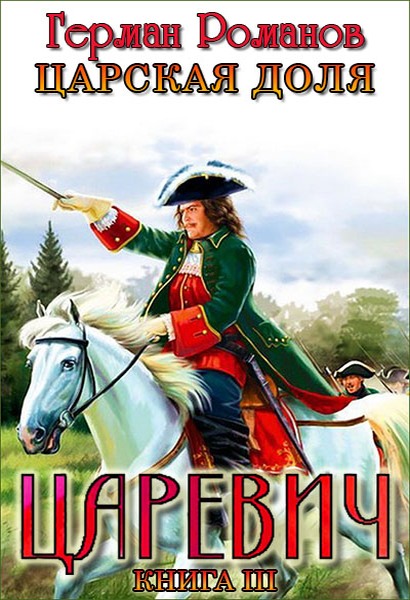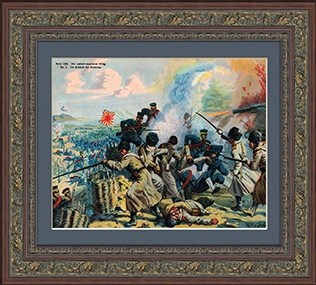высадиться летом в польской Померании, английский флот нейтрализует датчан и московитов.
По мере того как Карл говорил, он воодушевился, глаза горели неистовым огнем. И в тот момент Фрол понял, что саксонский курфюрст может потерять свою корону…
Обычный московский двор — крепкий тесаный забор, ворота с калиткой из толстых досок, верея над ними. Окна со ставнями, поверху пущена затейливая резьба, а вот крыша покрыта не дранкой, а тонким железными листами, покрашенными в синий цвет. Одно только это свидетельствовало об определенном достатке служилого человека, причем приказного, да не подьячего, а дьяка, занимавшего в своем Приказе солидное положение.
Человек в изодранном полушубке и заячьем треухе молотил кулаком в калитку почти беспрерывно, во дворе оглушительно залаяли собаки — без них не обходились не на одном подворье, ибо лихого народца развелось в Москве бессчетно, как не старались их отлавливать, клеймить и отправлять «сволоченный народец» на строительство Санкт-Петербурга.
— Эй, кто там забавляется?!
Из-за калитки раздался грубый голос мужика, говорящий сразу о недюжинной силе — знающими людьми такое сразу определяется. А потому мужичонка ударил еле слышно, но уже в определенном порядке — два чуть громко и быстро, один за другим, а третий чуть позже, через паузу и уже гораздо тише. Приник к доскам и негромко произнес:
— Проша, это я, Игнат. К Артемию Ивановичу нужно немедленно!
— Ходют, тут ходют, перед Всенощной самой. После Рождества приходи, а то хозяин уставший…
— Тебя кнутом давно не драли, Прошенька?! Так сегодня же отведаешь «березовой каши» вдосталь. «Покушаешь» ее своей задницей, раз думать головой не умеешь.
Голос мужичонки стал насколько «ласковым», что любого холопа на месте пот пробил. Проша не был исключением, засов заскользил в пазах, а грубый голос забубнил:
— А я че? Я ниче? Дьяк повелел его не беспокоить, Игнат Петрович. А то ходют всякие…
Договорить Пахом не успел, посетитель неожиданно резко ударил его под дых, затем добавил шуйцей по уху — холоп, совершенно не ожидавший от гостя нападения упал на колени, и, получив кулаком по темечку, рухнул ничком на грязный утоптанный снег. Посетитель осторожно закрыл калитку, задвинул засов, свистнул двум собакам — те уже перестали лаять, лишь хвостами виляли, радуясь приходу.
— Вот так то, — мужичок осклабился и пнул под бок холопа носком сапога — юфтевого, дорогого, какие лишь богатые посадские носят, и никак не сочетавшегося с потрепанной одеждой и «плешивой» шапкой.
— Прости, Игнат Петрович, не со зла я, — забубнил холоп — он, как и все наглые рабы, быстро переходил от хамства к унижению.
— Бог простит, но следующий раз я самому князю-кесарю Ивану Федоровичу о том скажу, как ты делам государевым препятствуешь. И тебя, поганца, Артемий Иванович не убережет — лохмотьями шкура свисать будет, выдерут так, что надолго запомнишь, червь.
— Бес попутал, пожалей, милостивец!
Прохор обнял сапоги, заскулил. Дерзил ведь не ярыге, подьячему Преображенского Приказа, сыну боярскому Акулинину, на которого пять дней тому назад дьяк матерно орал. Вот и решил последовать хозяйскому примеру — только ничего не вышло, разом «огребся».
Оно и верно — если тебя самого могут загрызть, то не хрен на такого противника лаять!
— Смотри у меня, Прошенька, добр я сегодня, — подьячий ухмыльнулся, и ударом сапога свалил было начавшегося подниматься холопа на снег. Посмотрел на лежащее тело, и, удовлетворившись результатами экзекуции, вошел в дом, чей внутренний вид оказался куда поплоше, чем снаружи — сундуки и лавки, все старозаветное.
Дьяк Емельянов давно вдовствовал, детишек ему бог не дал, а потому сбросил одежду и шапку на сундук, Акулинин миновал сени и вошел в горницу. Старая служанка при его виде сразу юркнула за печку, парнишка, до того дремавший в углу, живо бросился к двери комнаты, куда никому, кроме его, запрещалось входить.
— Хозяин, к тебе сын боярский Игнат Петрович.
— Пусть входит!
Мальчишка тут же распахнул дверь и склонился в поклоне — Акулинин мимоходом отвесил ему «леща» и прошел в комнату, запечную, очень жаркую, похожую на каморку. Дьяк сидел за столом на лавке, горели свечи в шандале, лежали бумаги, поверх которых было брошено перо.
— Болен я, Игнат, застудился. Почто у тебя на кулаке кровь — Прошка опять дерзил?!
— Снова тявкать принялся. Как есть пришибу!
— Не трогай его, ростом вышел и силушкой не обижен, умишком скорбен токмо. Свершилось что, раз в такую рань пришел?!
— Непонятное происходит, Артемий Иванович. Ярыга мой Сенька три недели тому назад, а то и больше, драгун с офицером видел, что к Абраму Лопухину заявились полудюжиной и провели у него день. Служивые и служивые — кто только в Москву не приезжает. Вот только третьего дня заметил он сих драгун уже за Неглинной, на подворье пустом, где кроме них только хозяин старый со слугой, причем Лопухиным давно служат. И служивые уже не в одежде, что воинским чинам положена, а как посадские выглядят. Вот я и встрепенулся — узнал у писцов князя-кесаря, что никакие драгуны с подорожной в канцелярию не являлись, а ведь должны были бумагу показать, и на отметку ее отдать.
— Должны, — эхом отозвался дьяк. И поправил наброшенную на плечи шубейку. — Зело непонятно. И что ты выяснил, Игнат?
— Незнамо откуда явились, и держаться сторожко. Люди бывалые, к оружию привыкшие — трое точно драгуны.
— Почему ты так решил?
— Ходят вразвалку, а шуйцы на боку постоянно держат, словно палаши или шпаги за эфес придерживают. И офицер у них примечательный — росту высокого, парик не носит — свои волосы до плеч черные и прямые. Сам сухощавый, голову держит прямо, надменно — можно даже спину не смотреть — не секли его ни разу и на дыбу не подвешивали.
— Может из иноземных людей на царской службе?!
— Может и так, но по виду наш он. И с княжеским титулом, не меньше. Вроде знаком лицом, видел где-то, но припомнить никак не смог, как не старался. Мы с ярыгой в соседнем домишке у целовальника третью ночь провели, за подворьем смотрели. Хозяин нам перечить не стал, но за двор мы его не выпускали одного — нашу грамоту показали. И допрос ему устроили, вот он нам про тех постояльцев и поведал следующее.
— Так, не томи, Игнат.
Однако Акулинин налил в кружку взвара и пил долго, наслаждаясь нетерпением дьяка — то была его маленькая месть. К тому же он не без оснований считал, что Емельянов постарел, нюх потерял и к службе уже не способен по старости лет своих.
Ведь