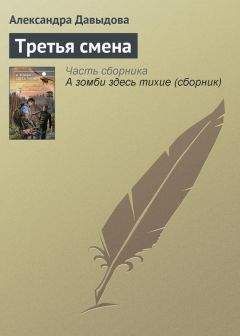Время было. Но отвечать ничего не стал, молча перевернул старика на живот. Сейчас главное — позвоночник. Смотрю на него способностями. Вся спина сплошной сгусток боли. Да, как он еще ходить мог⁈ Железной воли человек!
— Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него[i], — начинаю громко с выражением декларировать выученные молитвы, чтобы старому было спокойней, а сам приступаю к лечению. Из-под сознания появляются знания, что и как надо делать. Руки замирают над нужными точками, разгоняя боль, напитывая позвонки и нервные окончания жизненной энергией. На периферии слышу, как мне что-то пытается сказать отец Федор, но слова не воспринимаются. На автомате бормочу заученные молитвы и продолжаю лечение. Все сильней накатывает мерзкая тошнотворная слабость, но останавливаться пока нельзя. Иначе все пойдет насмарку. В комнате становится ощутимо светлей от исходящего от моих рук зеленого света. Ощущаю на губах солоновато-железистый вкус крови. Наверное, из носа. Плевать! Немного осталось. Вот здесь еще поправить и хватит на сегодня, иначе сдохну! Все! Руки бессильно падают вниз. Тело перестают слушаться, а голову заполняет туман. Я начинаю заваливаться и сквозь мутную пелену чувствую, как меня кто-то подхватывает, не давая осыпаться мешком костей на твердый пол. Олимпиада⁈ Она-то здесь откуда⁈ И меня накрывает спасительная тьма.
[i] Псалом «Живой в помощи»
Сидору кто-то ворожит, не иначе! Потому как уже полгода бегает от меня, гад, и даже не догадывается об этом. Вот и сейчас, вместо того, чтобы отправиться в Питер на поиски своего кровника я двигаюсь в Томск. И да, теперь я чуть ли не святой, излечивающий наложением рук и святой молитвой! Ага! Вот так, вот! И ладно бы тетка Олимпиада с ума сходила, так ведь и отец Федор, с какого-то перепугу проникся! Смотрят на меня теперь горящими фанатизмом глазами.
Я когда лечить батюшку начинал, не учел впечатлительность и религиозность местных. Вот и получилось то, что получилось. А с другой стороны их можно понять. Тетка Олимпиада, зашла проведать батюшку, а тут я громко бормочу молитвы, водя руками над больным стариком, а вокруг нас играет ослепительное Божественное сияние. Это со слов впечатлительной женщины. С последним: «Аминь», — я падаю. А еще утром еле-еле таскающий ноги батюшка, вскакивает, как молодой и подхватывает мою почти двухметровую тушку весом под центнер. При этом совершенно прекрасно себя чувствует. Тут и тетка подоспела на помощь. Вот и воспылали они от таких спецэффектов небывалым религиозным пылом.
Уложили меня на тот же диван, где я продрых почти сутки, а проснулся уже прославившимся на всю Колывань. Отец Федор с Олимпиадой не могли же умолчать о чудесном исцелении. А на меня теперь даже брат смотрит, как на икону животворящую. Да и ладно, пусть себе, смотрят, как хотят, но мне же Аксинья доступ к телу перекрыла. Потому как грешна и недостойна! И в обратном ее не убедить, уперлась баба, хоть режь! Теперь веду образ жизни полный святости и аскетизма. Пытался поговорить на эту тему с протоиереем, но получил в ответ лекцию, что Бог осенил меня своим светом, а это большая честь и ответственность. Ну и вишенкой на торте приглашения в Томск к губернатору Тобизену и епископу Томскому и Семипалатинскому Макарию. С губером встреча обещает быть полезной. Мне землю выкупать надо под завод, а то господин Костромин, судя по всему, забыл про меня, а обещал, передать просьбу по инстанции. Но у нас обещанного три года ждут, а тут даже полгода не прошло. А вот с Макарием-то мне, о чем говорить? Хотя, как это о чем⁈ О лекарствах и «Дарах Сибири»! Мне на них церковное благословение еще как нужно. С отцом Федором я так и не успел дела обсудить. А потом не до того стало.
С обустройством в Томске проблем не возникло. Сразу по прибытию, нас разместили в гостевых комнатах Архиерейского дома на Почтамтской улице. Отец Федор тут же ускакал к Макарию, ну а мы с Ваньшей ополоснулись во, вполне себе соответствующей стандартам даже XXI века, ванной с горячей водой и завалились отдыхать. Брательник до сих пор ходит пришибленный от неожиданных перемен, свалившихся на нашу голову. Мне не совсем понятно его чинопочитание, возведенное в абсолют, но я дитя совсем другого мира. Для меня что губернатор, что епископ просто чиновники, может быть по местным меркам и очень высокого полета, но явно не повод трепетать в экстазе, как делает Иван. Даже не ожидал от него такого. Или брата просто масштаб поразил?
— Ваньш, да успокойся уже, захотим, и у нас такая будет, – я попытался отвлечь парня от разглядывания вычурной, украшенной резьбой, позолотой и блестящей от толстого слоя лака мебели.
— Не скажи, — он покачал головой, – Нам такое не по карману. Такой даже у Павла Порфирьевича нет.
Едва сдерживаюсь, чтобы не заржать в голос.
— Ну, ты сравнил, хоромы сельского коммерсанта и архиепископский дом. А это, — под удивленным взглядом Ваньки пренебрежительно машу рукой на убранство выделенных нам апартаментов, — Noblesse oblige, то есть положение обязывает. Чтобы подчеркнуть достаток и величие церкви, — при упоминании церкви, Ванька тут же начинает креститься. Приходится и мне. Эта привычка крестить пузо по поводу и без порой жутко раздражает! Брательник наконец угомоняется и разваливается в обитом алым бархатом кресле, почему-то стойко ассоциирующемся у меня с театром. Вид у него при этом до того гордо-придурковатый, что не могу удержать смешок.
— Каво ржёшь? – подозрительно смотрит он на меня, не зная то ли обидеться, то ли присоединиться к веселью.
— Да так, — анекдот вспомнил.
— Рассказывай, — ну вот, придется выкручиваться, и что ему рассказать-то. Я по анекдотам не очень. Придется Ржевского немного переделать, думаю, Ваньше, как армейцу зайдет.
– Спрашивают как-то казака в высоком аристократическом обществе: «Господин есаул, а вы любите свою лошадь?», «Только в тяжёлом и продолжительном походе».
Ванька лупает на меня глазами, не понимая, когда смеяться, и тут до него потихоньку начинает доходить пошлая двусмысленность. Он хмуриться:
— Тьфу, дурак! — Иван осуждающе качает головой, но все же не выдержав, сначала хрюкает, а потом начинает дико хохотать. Так хохочущими нас и застал пожилой церковный чин в черной рясе и круглой монашеской шапочке. Окинув нас удивленным взглядом, приятным тихим голосом он спроси:
— Кто