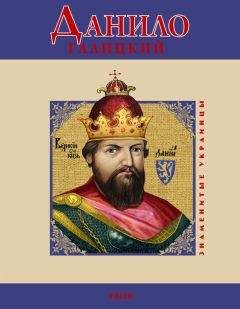Ознакомительная версия.
– А что такое «депортация»? – жадно поинтересовался Вишневецкий.
«Андрюха, ты точно теряешь квалификацию! Совсем за языком следить перестал!» – снова влез ехидный внутренний голос.
* * *
Хмельницкий, осенив крестным знамением Кривоноса, который сидел на сердитом и нетерпеливо переступающем Черте, торжественно произнес:
– С Богом! Начинай, Максиме! Об одном только прошу: не рискуй понапрасну, не лезь впереди всех под огонь. На то простых казаков хватает, а ты нашему войску ох как нужен!
– Будь спокоен, батьку, уж я это понимаю, – растянув губы в многозначительной усмешке, отозвался полковник, глаза которого, устремленные на Высокий замок Львова, казалось, так и метали молнии. – Напрасно и по-глупому рисковать головой не стану. Однако и хорониться за спинами казаков своих – не по мне это… А ну, браты-товарищи, вперед! В сечу! Круши ляхов!
Он потряс над головой саблей и дал Черту шпоры. Зло всхрапнув, гнедой рванулся вперед, по дороге, которая вела через сожженное предместье к Замковой горе.
Дружный дикий рев заглушил даже топот тысяч копыт. Полк Кривоноса тронулся с места, набирая разгон. Загудела, застонала земля. Столбом взвилась пыль, долго не оседавшая, висевшая в воздухе, даже когда всадники уже миновали границы предместья.
– Ай, батыр, ай, удалец! – одобрительно качая головой и цокая языком, промолвил татарский мурза с крашенной хиной бородой, в богато украшенном позолоченном панцире и таком же шлеме, сидевший на тонконогом красавце аргамаке. – Вижу, и в бою храбрый, и перед ханом своим, то есть гетманом, тоже храбрый! Жаль, что он не нашего народа…
– В любом народе есть удалые храбрецы, брат мой Тугай-бей! – уклончиво ответил Хмельницкий. А про себя подумал: «Знал бы ты, что этого «батыра» требовал разыскать и предать лютой казни за то, что он твоих людей посек и ясырь на волю пустил…»
И тут кто-то сбоку негромко окликнул его:
– Ясновельможный гетмане!
Повернувшись, Хмельницкий увидел одного из казаков, стоявших в тот день на страже у его палатки.
– Зачем явился сюда? Иль стряслось что-то? – насторожился Богдан.
– До твоей милости просится какой-то хлопец. Со слезами молит принять и выслушать. Странный с виду, вроде как не в себе…
– Так что же мне, каждого божевильного[53] выслушивать, да еще во время боя? – раздраженно хмыкнул Хмельницкий. – Не до него! Накормите убогого, и пусть идет себе куда хочет… Погоди! – Он торопливо полез в карман, извлек несколько талеров. – Вот, отдай ему, пусть помолится за здравие мое и удачу святого дела нашего.
– Пане гетмане, хлопец твердит, что у него важные вести про какую-то пани Елену, и будто бы твоя милость непременно захочет их узнать!
– Да про какую еще па… – вскипел Богдан, не сразу сообразив, о ком идет речь: все мысли его были поглощены начавшейся осадой. Но тут же осекся на полуслове и покачнулся в седле, инстинктивно ухватившись за переднюю луку. Лицо его посерело, по лбу покатились градом крупные капли пота… Слишком сильным оказалось потрясение.
– Что с паном гетманом?! – всполошился перепуганный казак. – Гей, люди! Лекаря, скорее!
– Не нужно! – прохрипел Богдан, с трудом придя в себя. – Где этот хлопец?
– У палатки твоей милости… Стерегут на всякий случай.
Хмельницкий торопливо подъехал к Тугай-бею, наблюдавшему за этой сценой с неподдельным интересом.
– Пусть мой почтенный брат извинит меня… Срочное и нежданное дело! – И, повернув жеребца, гетман помчался к своей палатке, больше похожей на роскошный шатер. Казак поскакал следом, стараясь не отставать.
Татарин медленно покачал головой, потом воздел ладони к небу.
– Эти гяуры вечно торопятся… Потому, что не веруют в Аллаха и не знают, что спешка бессмысленна, – усмехнулся он. – Ведь все будет только так, как угодно Всемогущему!
«Хлопец» и впрямь производил странное впечатление. Перепуганный, с замурзанным лицом, в запыленной рваной одежде, напоминавшей нищенские лохмотья, и косматой шапке, надвинутой чуть ли не на брови, несмотря на теплую погоду, он был похож на огородное пугало. Щеки же его, хоть и грязные, были нежные, точно у дивчины. Казалось, что их еще ни разу не брили. Да и губы, которые он нервно покусывал, были по-девичьи тонкими. При виде гетмана в глазах посланца мелькнул ужас, быстро сменившийся неописуемым облегчением и какой-то непонятной надеждой.
Богдан резко осадил коня, спрыгнул, подошел вплотную.
– Как звать тебя? Откуда ты? Чем докажешь, что вправду есть сведения о… – Хмельницкий перевел дыхание, стараясь унять бешено заколотившееся сердце, – о той пани?
Хлопец также глубоко вдохнул, явно собираясь с силами и прогоняя испуг.
– Ясновельможный гетмане! – голос прозвучал неестественно высоко, видно, от волнения. – Все расскажу, ничего не утаю! На бога, только позволь наедине, без лишних ушей… – он, запнувшись, указал на палатку.
– Наедине? – после недолгого раздумья Богдан кивнул. – Ну что же! Иди за мной, – и направился к входу. Джура услужливо откинул полог.
– На бога, пане гетмане! Это может быть опасно! – вскинулся один из казаков. – Позволь, я его хотя бы обыщу! – И начал водить руками по телу хлопца, старясь нащупать нож или иной опасный предмет.
Раздался истошный пронзительный визг, затем – звук смачного шлепка. Хмельницкий резко остановился, повернулся…
– Ах, бисова дитына! Так это ж не хлопец! – рявкнул казак, получивший оплеуху, смущенный и взбешенный одновременно. – А ну! – И он молниеносным движением сдернул косматый головной убор.
Длинные черные волосы рассыпались по плечам, спине… Казаки дружно ахнули.
У Хмельницкого изумленно взметнулись брови. Он застыл на месте, не отрывая взгляда от замурзанного женского личика, боясь поверить собственным глазам…
– Дануська?! – неуверенно произнес потрясенный Богдан.
– Я, славный гетмане… – всхлипнула камеристка Елены. – Хвала Матке Бозке, добралась до твоей милости сквозь такие ужасы! Как живой осталась, сама не пойму! И письмо от пани принесла, смогла уберечь. На груди моей оно, как святыню хранила! – голос Дануси прервался от рыданий.
Гетман стиснул ладонями голову, что-то беззвучно шепча… У него был вид человека, сомневающегося в здравости собственного рассудка. Потом, опомнившись, приказал ледяным голосом:
– Заходи! Будем говорить. И чтобы никто нас не тревожил! – повернулся он к казакам. – Никого не впускать, пока сам не разрешу! Ясно?
– Ясно, пане гетмане! – кивнул потиравший щеку казак, испепеляя Дануську нехорошим взглядом.
Ознакомительная версия.