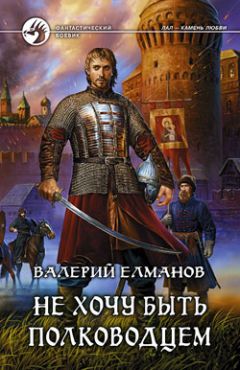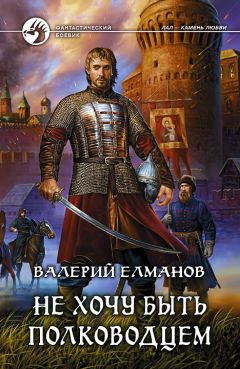Это верно — давал. Как только удавалось взять ливонский городишко, так царь первым делом устраивал очередные смотрины, называя их почему-то ведьминым сыском. Дескать, он тех баб, что с дьяволом спознались, за версту чует. Мол, дар у него такой. А в придачу господь, аки божьего помазанника, его еще одним даром наделил — оного дьявола изгонять.
До сих пор не пойму — то ли он и впрямь так считал, то ли это было некое оправдание, но пару-тройку самых пригожих он непременно оставлял на ночь в своем шатре. Иногда, что бывало реже, бес сидел в очередной ведьме крепко, и тогда девка задерживалась на вторую ночь. Случалось, хотя и совсем редко, — на третью. А потом он их предлагал остальным или выгонял — в зависимости от настроения, предпочитая осуществлять последнее преимущественно вдали от города и оставив на несчастной в знак своей милости в лучшем случае самый минимум одежды.
Прочих «подозрительных» по части присутствия в их телах бесов он щедро раздавал своим приближенным. Мне, как одному из любимчиков, доставалось право выбора в первом десятке. Когда это произошло в первый раз, я отказался, сославшись на недомогание, и деваха тут же перекочевала в шатер к Григорию Лукьяновичу, который, как мне потом стало понятно, в своих сексуальных забавах вел себя примерно так же, как на основной работе. Во всяком случае девку, предназначенную поначалу мне, из его шатра поутру попросту выволокли. За ноги. Оставалась ли она к тому времени в живых — не знаю, а вот то, что ее одежда превратилась в лохмотья, а само тело было в крови — факт.
После того случая я во избежание худшего уже не отказывался от своей очереди на выбор, хотя насиловать и не собирался. Просто заводил в свой шатер, после чего прикладывал палец к губам и молча указывал на постель — мол, ложись и спи. Кстати, нашлась в этом и выгода для меня самого — великолепная отмазка, чтоб не участвовать в очередной вечерней пьянке, до которых царь был весьма и весьма охоч.
Любопытно, что три четверти девок понимали меня превратно и, едва зайдя в мой шатер, послушно и безропотно начинали раздеваться, явно готовые на все. Какая-то безысходная собачья покорность у этих прибалтиек. Или коровья.
Словом, с русскими Машами и Дашами никакого сравнения.
Более того, некоторые наутро были весьма удивлены подобным равнодушием к их прелестям с моей стороны — оно прямо-таки сквозило в их взглядах. Готов биться об заклад, что половина удивленных решила, что я скрываю свои противоестественные наклонности и лишь по этой причине не попользовался ими.
А еще одна, нимало не смутясь, вообще попросила оплатить ее услуги, хотя я ими и не воспользовался. Наверное, готовность их предоставить в ее понимании тоже чего-то стоила. В отличие от прочих девок, которых провожал до города, чтоб никто не трогал по дороге, ее я в качестве наказания попросту выгнал из шатра.
Надо сказать, что на обратном пути мой нехитрый трюк царь вычислил — кто-то ему настучал, что девок я беру просто так, после чего Иоанн имел со мной продолжительную серьезную беседу, начав ее с вопроса в лоб, поинтересовавшись, где меня приучили к содомии.
Словом, разговор происходил в его обычной «деликатной» манере, в какой он общался с прочими подданными. Отмазаться мне удалось, хотя и с превеликим трудом. Пришлось вновь врать, собирая всякую чушь о каких-то обетах, согласно которым я поклялся выпустить на свободу сорок пленниц. Про них я ему и напомнил ныне. Мол, если бы не они, то я ух какой боевой, но нельзя — надо держать княжеское слово, особенно если оно дано самому господу богу. Напомнил и тут же продолжил о своем разительном несходстве с Сильвестром:
— Я и о постах забываю, государь, и обедни пропускаю, а по монастырям и вовсе не ездок. Да и ни к чему все это, если у самого бога в душе нет. А если есть — сызнова ни к чему так далеко ездить. Он же повсюду с тобой. Так что куда мне в глазах ближнего сучки выискивать — свои бы бревна вначале выковырять. Потому и не поучаю тебя. Лестно, конечно, царя в ученики взять, да не гожусь для такого. А притчи — они не поучения. Ты спрашиваешь, а я ответ даю, как сам думаю, вот и все. Не станешь спрашивать, и я умолкну. — И, как бы между прочим, по ходу дела, самым небрежным тоном: — Да, запамятовал что-то. Он что же, помер али как?
— Не запамятовал, — буркнул Иоанн. — Не сказывал я. — И с легкой иронией осведомился: — Али как — это ты про плаху помыслил?
Я неопределенно передернул плечами, а для надежности развел руки в стороны:
— Ой и умен же ты, государь. Насквозь зришь. Не то что в душу, но и то, что на ее донышке, все подмечаешь, ничего от тебя не утаишь.
Засмеялся. Понравилось. Потом насупился, припоминая:
— Да нешто я и впрямь зверь какой. Его, яко владыку Филиппа, в чародействе лихие люди уличили, так я и опосля того в обиду не дал. Но он к тому времени сам от меня в монастырь ушел и… Не желаю я о том вспоминать! — возмутился он с какой-то детской непосредственностью в голосе, словно ребенок, которому досадно отчитываться еще раз в том, как он вчера, расшалившись, разломал дорогую игрушку.
«Дядьки виноваты — столкнули мою куклу, она и раскололась», — упрямо лепечет он.
Ну и пусть лепечет. Мы, как в случае с тем же Воротынским, крестик в уме поставим и тем ограничимся. Хороший это крестик или плохой — дело десятое. Знаю одно: чем их больше, тем мне будет легче вести себя с ним, чтоб не влететь по глупости. Я, кстати, уже тогда приступил к строительству запасного аэродрома. Мало ли…
— Меня-то, как мирского человека, наверное, не монастырь ждет, ежели что? — осведомился с невинной улыбкой.
Вроде как шучу я. Ха-ха и не более того. А ты как смеяться станешь, государь?
— Иные бояре и монастырь благом считали… ежели что, — ответил он мне в тон, но тут же ободрил: — Да ты не боись. Зрю я, что ныне и впрямь промашку дал. Несхож ты с Сильвестром. И про грехи не бубнишь, и поучать не лезешь. — И проникновенно произнес: — Полюбил я тебя, фрязин, потому своей любовью да милостью не оставлю. Ты же без меня тут пропадешь — сожрут тебя мои бояре, — И уверенно повторил, в очередной раз напоминая о моем трагическом конце, словно смакуя его: — Как есть сожрут и косточек не оставят.
Вот уж спасибо. Отец бы родной так не утешил. И за любовь с милостью тоже спасибо. На один взгляд посмотреть — эдакий змеино-обволакиваюший, и сразу ясно — в гробу мы ваши нежные чувства видели.
«О-о-о, как я тебя обожаю», — ласково прошипел удав и от избытка нежности чуточку сильнее сдавил свои объятия. Кости захрустели…
У Иоанна и впрямь была какая-то змеиная любовь. Обволакивающая. Душащая. Тошно от нее человеку. Это самому удаву хоть бы хны, даже удобно. Едва надоест — чуть напрягся, и все. Был человек — стал ужин.